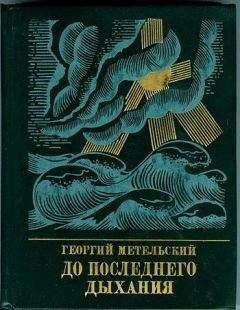а не карликовые березы на улицах… Сады в теплицах. Крытые тротуары. Электрические фонари будут гасить в часы полярных сияний. Это чтобы лучше наблюдать за небом… Вы видели когда-нибудь сполохи?
Я никогда не думал, что взрослый человек может нести такую красивую околесицу. И все же я немного завидывал бородачу. Он совершенно отчетливо представлял свой несуществующий город, освещенный то полуночным солнцем, то северным сиянием, нефтяные вышки и, может быть, свою квартиру в этом городе, со всеми удобствами, на четвертом этаже, с лифтом.
А что видел перед собой я? Кусок земли, огороженный колючей проволокой. Даже звезды я мысленно соединял линиями, и получалась решетка, которую не распилить никакой ножовкой…
А бородач все говорил и говорил:
— Я глубоко уверен, что на планете нет квадратного метра поверхности, под которым бы не лежали богатства. Некоторые из них находятся у всех на виду — нагнись и бери, другие на недосягаемой пока глубине, где-нибудь в мантии земли, третьи — вполне доступны для использования, но полезность и ценность их пока не известны людям. Так было, например, с марганцевыми залежами в Горной Шории. Десятки лет геологи топтали их ногами, не подозревая даже, что это и есть богатейшая руда…
Наконец он понял, что я просто валюсь от усталости, и спохватился.
— Кажется, я вас усыпил своей болтовней… Простите, бога ради. Устраивайтесь на ночь, потому что завтра опять трудный день. А я немного поработаю с вашего разрешения.
— Ну что ж, поработайте, — великодушно согласился я и забрался в спальный мешок.
Напевая, бородач пошел к обрывистому, размытому ручьями склону холма. Песок сыпался из-под его ног и, шурша, мягко шлепался в воду. Филипп Сергеевич срезал лопаткой тонкие ломти земли, выковыривал камешки и, завернув в бумагу, прятал образцы в мешок. Мешок все тяжелел, а я, засыпая, думал с раздражением, что все это мне придется завтра тащить на собственном горбу.
Что делал бородач потом, я уже не помню, кажется, как всегда перед сном, играл на губной гармошке…
День в лагере начинался всегда одинаково. Выбирался из палатки шеф и шел за бугорок прогуляться. Воротясь, он кричал зычным голосом: «Подъем!» — и начинал делать зарядку. У шефа уже наметилось брюшко, и он пытался согнать жир физкультурой.
При команде «Подъем!» Галка лениво шевелилась и говорила мне сонно и расслабленно всегда одно и то же: «Доброе утро». Я же вскакивал и бежал к погребку для продуктов — обыкновенной ямке в земле, где хранились масло и консервы. Ямка закрывалась от солнца фанеркой и пластом дерна сверху.
Сложившись вдвое, из палатки вылезал бородатый Филипп Сергеевич. Он распрямлялся, щурился от солнца, вынимал из футляра очки, подносил их к глазам, дышал на стекла, долго протирал носовым платком, наконец надевал их и с удовольствием оглядывал тундру.
— Хорошо!
Последним вставал Ром. Сначала из палатки показывалась его жилистая рука, черная до запястья и бумажно белая дальше к плечу. Рука на ощупь хватала висевшие на растяжке портянки, потом сапоги и исчезала. Через минуту появлялся сам Ром, коренастый, нестриженый и, как всегда, мрачный.
Колдуя над костром, я слышал, как начинала свой рабочий день Галка. Именно в это время всегда раздавался ее непохожий на обычный голос, какой-то металлический и скрипучий: «Раз, два, три, четыре, пять. Как меня слышите? Прием». Это она кричала в микрофон Регинке, городской радистке с ихней базы. Сначала Галка передавала распоряжения шефа, выслушивала ответы на вопросы, заданные вчера, а после начиналась самая обыкновенная женская трепотня. Например, про то, как ведет себя в соседнем отряде какая-то Таня Спиридонова или сколько бутылок шампанского заказал на свои именины Петя Быков из буровой партии.
Эти радиоразговоры меня всегда приводили в плохое настроение, и я облегченно радовался, когда Галка наконец прощалась со своей подружкой.
После нескольких «ходячих» дней шеф устраивал нечто вроде выходного. Собравшись в палатке, все спорили о каких-то поднятиях и структурах, а я брал у бородача ружье и шел на ту сторону озера, к песчаной отмели, разрисованной трехпалыми отпечатками утиных лап.
Мне нравилось бродить одному, особенно на закате. Воздух был бледно освещен румяным ночным солнцем и прозрачен, и в этой прозрачности тоже все казалось румяным и свежим — листики полярной березки, величиной с копейку, ломкий, седой ягель и неправдоподобно зеленый, пропитанный водой мох.
Я мог, когда вздумается, сесть на кочку и отдыхать, сколько мне заблагорассудится. Мог, лениво прицелясь, сбить доверчивую утку и, шлепая сапожищами по озеру, достать ее и положить в ягдташ. Мог и не стрелять, а присесть на корточки и губами собирать с кустика крупную княженику. Потом от меня весь вечер пахло, будто я надушился духами или помылся земляничным мылом. Наевшись, я рвал ягоды для Галки. Галка радостно улыбалась и спрашивала, почему я ношу княженику ей, а не шефу.
Мог я наконец, раскрыв тетрадку, перечитывать свои глупые дневники, блатные песни и выписанные из разных книжек умные мысли умных людей.
Например:
«Нет большей беды для человека, чем страх».
«Трус умирает при каждой опасности, грозящей ему, храброго же только раз настигает смерть».
«Может всегда взять верх лишь тот, у кого нет никакого другого выбора, как победа или смерть».
«Правда часто служит лестницей ко лжи. Стоит только достичь известной высоты, и правда забыта».
Я очень дорожил своей тетрадкой и раз чуть было не разругался из-за нее с Галкой. Было это вечером, я сидел недалеко от лагеря, писал всякий вздор про свое теперешнее житье и не заметил, как она появилась.
— Ты что делаешь? — спросила Галка.
— Решаю задачки по тригонометрии. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа равно единице.
— Нет, в самом деле?
Она подошла совсем близко, и я захлопнул тетрадь. Очень мне надо, чтобы подглядывали ко мне в щелку! Но от Галки было не так легко отделаться. Она начала крутиться около меня, намереваясь вырвать тетрадку, а я не давал, и все-таки Галка умудрилась ее выхватить.
Я обозлился:
— Отдай сейчас же, слышишь?!
Галка не повела и бровью, а раскрыла тетрадь и стала читать, что там написано.
И не забыл я голоса
Хорошего, глубокого,
Твои густые волосы
И всю тебя далекую.
Во мне все закипело.
— Отдай, а то ударю! — крикнул я.
Галка рассмеялась:
— Вот и ударь!
И мне порою грезится,
Что завтра, без сомнения,
С тобою должен встретиться
Хоть на одно мгновение.