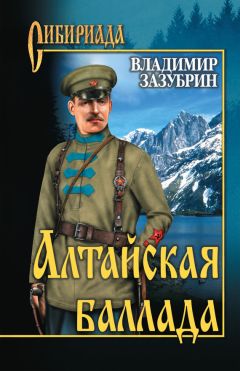Барановский, Мотовилов и Колпаков с остатками своих рот оторвались от полка и ехали вместе, составив, по выражению Колпакова, «ударно удирающий» батальон. Барановский ехал, занятый своими мыслями, ни во что не вмешивался, с каким-то безучастием и покорностью подчиняясь распоряжениям энергичного Мотовилова, фактически ставшего командиром всех трех сведенных рот, потому что и Колпаков, человек с ленцой, с удовольствием свалил с себя все хозяйственные заботы. Ударно удирающему батальону не везло: он третьи сутки ночевал на улице. Запасы продовольствия истощились. Хлеба не было, мяса тоже, оставалось только несколько бочек масла, которое люди грызли на морозе с луком, захваченным на одной из хохлацких заимок. С последней остановки Мотовилов выехал злой и угрюмый, с твердым намерением во что бы то ни стало захватить в следующей деревне квартиру и в тепле хорошенько выспаться. Мотовилов ехал и мысленно рассуждал о том, как надо жить, и приходил к своему старому выводу, что нужно брать все силой, что живет только сильный. Ему вспоминалась только что оставленная деревня, где они и могли бы втиснуться кое-как в избу, но солдаты не пустили их, и они вынуждены были ночевать на морозе. Офицер краснел от одного воспоминания о том унижении, какое пришлось им пережить на последней остановке. Иззябшие и голодные, после шестидесятиверстного дневного перехода, они стали просить каких-то солдат, занявших избу, пустить их погреться. Из избы в ответ на вежливое «пожалуйста» офицеров раздалась грубая площадная ругань и крики:
– Много вас тут найдется, катитесь дальше! Самим сесть негде!
Один пьяный, с оборванными погонами, в английской шинели, вышел из избы, и, громко икая и покачиваясь, глядя на офицеров мутными глазами, дыша им в лица винным перегаром, засмеялся:
– Что, господа офицеры, плохи дела-то? Не пускают. Н-да-с, прошли золотые денечки. Теперь мы все равны. Все бегунцами стали. Ик, ик! Все бегунцы. Н-да… ик, ик!
Солдат сильно покачнулся и, чтобы не упасть, схватился руками за угол избы, закинул голову назад, попытался запеть, но у него из горла вырвался прерывистый, заглушенный вой, и весь он, лохматый и грязный, был похож на дикого зверя. Замолчав, пьяный выпрямился и, обращаясь к офицерам, продекламировал:
Офицерик без погон,
Вспомни, что было.
Мотовилов молча размахнулся и сильно ударил пьяного кулаком в ухо, тот без звука рухнул на снег, потеряв сознание. Офицеры вышли со двора. Барановский с нервно подергивающимся лицом спрашивал:
– Ну зачем это, Борис? Зачем?
– Дурак ты, – коротко ответил Мотовилов. Теперь, сидя в санях и вспоминая эту сцену, офицер со злобой думал о «серой скотине». После нескольких часов езды Мотовилов остановил свой батальон на вершине холма, у подошвы которого стояло село. С холма хорошо было видно, что село кишит людьми и обозами.
Свободных квартир в нем, несомненно, не было. Офицер подошел к саням с пулеметом и твердым, властным голосом приказал пулеметчику:
– Снимай пулемет. Ставь на дорогу.
Кольт зачернел на снегу, вытянув свое дуло в сторону села.
– Заряжай! – командовал Мотовилов. – Церковь видишь? – спрашивал он пулеметчика. – По вершине креста, с рассеиванием, – продолжал командовать Мотовилов. – Пулемет, очередь!
Двадцать пять пуль со свистом пролетели над селом, и сердитый стук пулемета разнесся по всем улицам. В селе поднялась суматоха. Люди, измотавшиеся вконец за долгое отступление, не разбираясь ни в чем, услышав только стрельбу, решили, что подошли красные, в панике метнулись из села. Обозы сплелись в запутанный клубок, сгрудились на узких улицах в несколько рядов, не могли разъехаться, выехать в поле. Мотовилов, смеясь, наблюдал в бинокль, изредка выпуская из пулемета небольшие очереди. Обозники рубили постромки и гужи, садились на лошадей и удирали верхом, бросая сани со всяким добром. Минут в пятнадцать село было очищено совершенно, и Мотовилов въехал в него с батальоном, приказав людям набрать из брошенных обозов необходимые продукты и вещи поценней. Солдаты, обрадованные легкой добычей, со смехом принялись за разборку брошенного, хваля находчивость своего командира. Жадный и запасливый каптенармус из роты Колпакова бегал между саней и, задыхаясь, кричал солдатам:
– Ребята, ничего не бросай. Там если чай или что, тащи. Масла тоже надо взять. Лошадей достанем. В дороге все годится.
Офицеры заняли один из лучших домов. Мотовилов с видом победителя сидел в переднем углу. На столе дымилось большое блюдо разогретых мясных консервов, брошенных какими-то штабными. Фомушка трясся от душившего его смеха, вскрывая банку забытых консервированных фруктов.
– Ты что, Фомушка? – устало спросил Барановский.
– Да как же, господин поручик, тутока за версту кто-то в небо палит, а тысячи людей бегут. Ну и трусы, – раскатывался и фыркал вестовой.
Трофеи превзошли все ожидания. Взято было масло, мясо, консервы, сахар, чай, мука, крупа, рис, овес, полвоза валенок, десяток полушубков, белье. N-цы в этот день основательно поужинали и в теплых избах расположились спать. Но к утру стали подходить новые обозы, и людей в избы налезло опять так много, что на рассвете офицеры едва выбрались из квартиры, с трудом шагая по груде человеческих тел, лежащих на полу в тяжелом забытьи. Ехать по большой дороге не было никакой возможности. Обозы шли по ней в четыре ряда, сплошным потоком, растянувшись на десятки, а может быть, и сотни верст. Движение было крайне медленное. Впереди идущие то и дело останавливались, задерживая из-за какой-нибудь поломки саней или порчи сбруи тянущийся сзади хвост на несколько верст. Люди стояли, злобно ругаясь и крича:
– Ну, понужай там, понужай!
Мотовилов решительно повернул со своим батальоном влево, заметив небольшую полевую дорожку, и к концу дня весьма удачно вывел его на глухую, брошенную хозяином немцем богатую заимку. Обозов на заимке было мало. Большая рабочая казарма с нарами была свободна, батальон разместился в ней. В казарме была плита с двумя вмазанными в нее котлами и русская печь. N-цы пришли в восторг от таких удобств. Солдаты шутили, отогреваясь в теплом помещении.
– Вот, ребята, повезет так повезет. Вторую ночь под крышей ночуем, – говорил кто-то, залезая на верхние нары.
Вестовые и несколько солдат отправились за дровами. Вернулись они, таща части разломанных фур, телег и даже принесли шикарное дышло от какого-то экипажа, покрытое черным лаком. Вестовой Мотовилова принес пару хороших венских стульев и несколько гравюр, снятых им со стены в доме хозяина.
– Это для чего? – спросил его Мотовилов.
– На разжигу, господин поручик. Лучины нет, – простодушно объяснил вестовой и принялся небольшим топориком рубить спинку стула.
Мотовилов махнул рукой:
– Валяй, ребята, жги, руби, только красным не оставляй.
Колпаков с глубокомысленным видом счел долгом присоединиться к мнению коллеги.
– Правильно, Борис Иванович, правильно. Помните, Кутузов, оступая, жег все на своем пути, чтобы французам не досталось? Безусловно, мы должны поступать так же. На войне как на войне!
Полотно гравюр с масляной краской и сухие ножки стульев горели хорошо. Дрова быстро разгорались и, потрескивая, стали бросать в казарму полосы мятущегося, желтого. света. Фома явился после всех, сгибаясь под тяжестью большого мешка. Офицеры встретили его спрашивающими, любопытными взглядами. Вестовой подошел к огню и вытряхнул из мешка окровавленных гусей, индеек, кур, уток.
– Браво, Фома. Хо-хо-хо! Ого-го! – загоготал довольный Мотовилов, щупая жирную, откормленную птицу.
– Где это ты словчил, молодчага? Фома вытирал рукавом нос:
– На дворе тутока, господин поручик. Смотрю, солдаты откуда-то гусей да пырышек тащат. Я подследил. Оказывается, из хлевушка такого, особенно для птицы устроен. Я туда, а там птицы этой видимо-невидимо. Ножик был при мне, я и давай полосовать. Чать красным не оставлять? – закончил вестовой.
– Верно, Фомушка, однако, ты куда логичнее своего командира рассуждаешь, – заметил Колпаков.
Мотовилов повернулся к нарам.
– Ребята, тут гусей и индюшек до черта. Кто хочет, вали, режь. Сейчас их в котел и гусиный суп на весь батальон сварганим. А ты, Фома, не зевай, тащи еще. Годится в дороге, – вполголоса приказал он вестовому.
Фома схватил мешок и побежал из казармы, а за ним десятка полтора солдат. Немного спустя они поодиночке возвратились, таща гусей, кур, уток. Фома вернулся опять с полным мешком, но принес одних только индеек.
– Эти скуснее всех, – объяснил он.
Несколько солдат с хохотом втащили в казарму отчаянно визжавшую большую породистую свинью, повалили ее около печи и тут же всадили ей в горло длинный японский штык. Потом притащили и зарезали шесть поросят. Мотовилов только одобрительно гоготал, поощряя солдат.