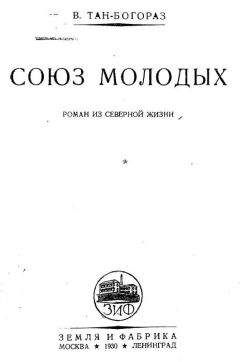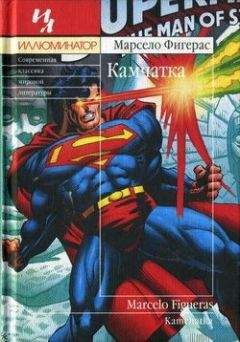— А Гаврилиху старуху почему не забрали?
Гаврилиху потому не забрали, что чувашские солдаты не сумели найти ее дома. Колыма словно потеряла и память и ум, и каждый указывал ночью солдатам совсем небывалое место. Один раз указали Гаврилиху другую, не настоящую.
И так чуваши помаялись с часок, потом отстали. У них много было хлопот без дряхлой колымской купчихи.
Однако Макарьев не стал объяснять рыжему всех этих подробностей. Услышав об Гаврилихе, он прошипел:
— Ежели ты не замолчишь, я тебя сразу зарежу!
И взялся рукою за ножик, висевший на поясе.
Ковынин немедленно сдался.
— Чорт с нею и с вами, — пискнул он. — Чего больно печалишься! Спал с нею, что ли?
Но к Дулебову он не дошел и об Гаврилихе больше не стал разговаривать.
Суда, разумеется, не было. Солдаты повели арестованных на лед и поставили рядом у проруби.
— Топить, что ли, будете? — с кривою усмешкой сказал сифилитик, Василий Коза. Он держался совершенно непринужденно, как будто не участник предстоящего действия, а какой-то посторонний зритель.
Авилова не было. Он редко ходил на расстрелы. Розовый Дулебов спокойно отсчитал с краю двенадцать человек.
— Дюжину довольно. Отодвиньтесь, пожалуйста!
Это относилось к другим восемнадцати. Они отскочили от товарищей, словно каждого из них тронули каленым железом. Дулебов подошел к первому из осужденных. Это был почему-то Мартын Виноватых. Он тупо смотрел в лицо палачу своими круглыми, выпученными, немигающими глазами.
— Поверните, пожалуйста, голову, — пригласил его Дулебов, — так вам будет удобнее.
Мартын повернулся. Дулебов вынул наган, неторопливо и удобно приставил к виску осужденному. Выстрел хлопнул. Мартын опустился на лед.
— Теперь продолжайте! — обратился Дулебов к солдатам.
Расстрелы в Авиловском отряде совершались без всяких коллективных залпов, один на один. Солдат подходил с наганом или винтовкой и убивал осужденного. В награду за подвиг он мог снять с него сапоги и верхнюю одежду, но только лишь после убийства, когда все уже сделано.
Карпатый и двое башкир застрелили фельдшера Макурина и двух сифилитиков. Надо было покончить с больницей. На очереди стал прокаженный. Он был страшен, как призрак. У него были вздутые губы и вместо носа на лице была белая площадка. На правой руке все пальцы отвалились и торчала глянцевитая культяпка с шишкой на конце.
Он стоял, как деревянная раскрашенная статуя, и убить его было не преступление, а подвиг, не лютая казнь, а последняя хирургическая операция.
Но никто из чувашско-башкирских солдат не захотел выйти. Главное, рубище на нем было такое, что годилось разве нарочито лишь для прививки заразы.
Черкес Алымбаев подошел в своей неизменной бурке и, видя нерешительность солдат, вынул наган и шагнул к прокаженному. Он хотел подать солдатам пример исполнительности. Но рука его не поддалась с оружием.
— Нэ стоит, вэ могу! — каркнул он отрывисто и отошел в сторону.
И тогда Дулебов вынул еще раз свой собственный наган и в несколько точных движений убил одного за другим шесть человек.
— А, может, из вас есть охотники? — обратился он к публике обычным приветливым тоном.
Ибо публичный расстрел привлек любопытных, и взрослых и ребят, и все с напряжением следили за страшным зрелищем.
Произошло колебание. Потом выдвинулся вперед корявый якут из поселка Дебальцево, полунищий батрак, по имени Никита Слепцов, и спросил:
— А одежа?
— Одежа — твое право, — обнадежил Дулебов.
— В борьбе обретешь ты право свое, — сказал он с усмешкой. Он был чистопсовый монархист, во усвоил себе лозунги партий соседних и дальних и применял их всегда вот также своевременно и кстати, как сейчас.
Одиннадцатым с краю был учитель Данил Слепцов. Он одет был по-якутски чистенько и даже щеголевато. И его серый кафтан-сангаях и черные сары-обутки соблазнили оборванного батрака.
— Стреляй, не боюсь, — сказал Данил мужественно.
— Дайте винтовку ему! — крикнул Дулебов солдатам.
Последняя из дюжины, долговязая Овдя Чагина, стоившая недвижно, как столб, вдруг замахала руками и дико закричала:
— Зараза, зараза собачья! — вопила она, подсовывая добровольцу свои длинные пальцы под самые глаза. — Собаки собак не едят, и вороны ворон не клюют… Чтоб тебя свеяло с ветром!
Убийца хладнокровно навел винтовку, выстрел раздался. Полунищий якут, Никита Слепцов, ухлопал из русского ружья учителя Данила, тоже якута и тоже Слепцова.
— Меня тоже убей! — вопила Чагина выставляя свою грудь.
— Сох (нет)! — отрицательно качнул головой якут. На женщину не брался.
— А вы, сволочи, — обратилась Овдя к толпе, — кровь нашу пришли рассматривать! Красная оспа на вас и черная холера! Двенадцать трясовиц и тринадцатая мать Кумуха!
Зрители отступили в ужасе. Овдя была, как тринадцатая мать Кумуха, начальница хора лихорадок.
— Кто угробит эту ведьму? — сказал Дулебов с ругательством. Вежливость его рассеялась, как дым.
— Руки усохнут, — сказала Чагина. — Помни, собачий огрызок. У меня пальцы долгие. С того света достану, твой нос оторву.
Она вышла из рядов и пошла прямо на Дулебова. И вид у нее был такой решительный, что он посторонился. Она прошла мимо и стала возвращаться по тропинке на угор. И тогда только Дулебов опомнился и бахнул из нагана. Овдя пошатнулась, потом повернулась, протянула к убийце страшные, скрюченные, проклинающие руки и грянулась навзничь.
— Отгоните эту сволочь, — сказал Дулебов солдатам. Он позаимствовал у Овди этот ругательный термин в отношении к зрителям.
Публика шарахнулась обратно и пустилась наутек, не дожидаясь прикладов башкирских и чувашских.
Остальных арестантов Дулебов разделил по возрасту. Восемь было взрослых и десять мальчишек с девчонками.
— Дайте вот этим по шее, — распорядился Дулебов, указывая на отцов. От жестких прикладов отцы повалились на снег и, даже не поднимаясь, уползли на карачках.
— А этих пороть!
— Мальчишков? — переспросил Карпатый.
— Пори себе мальчишек, — согласился Дулебов. — Я буду пороть девчонок.
Он покраснел и насупился.
Началась экзекуция тут же у проруби. Вместо скамеек служили раскатанные бревна. Мальчишек разложили, одного за другим, как раскладывают рыбу. Над ними работал Карпатый. Лозы нарезали тут же на угорье. С лозою в руках Карпатый перебегал от задницы к заднице, вдохновенно и проворно, как будто играл на органе. И живые клавиши отвечали, издавая различные звуки духового регистра. Но никто не вставал и даже не шевелился особенно.
Дул свежий ветерок, но Карпатый разогрелся. Ему было свежо и приятно. Это была не жестокость, а чистое искусство.
Искусство Дулебова совершалось несколько иначе. Он тоже разложил своих девчонок, обнажил, что полагается, примерился, вымерял лозою одну, и другую, и третью, и четвертую. Девчонки подняли страшный визг, гораздо звончее мальчишек. То был верхний регистр секуционного органа.
Но Дулебов еще раз примерился, выбрал одну и увел ее с собою наверх, бросив других без внимания на бревнах — хотят лежат, хотят встанут.
В горнице на лавке Дулебов опять разложил свою избранницу и стал ее сечь уже потихоньку, не торопясь, выдерживая паузы. И так ее засек до обморока, отлил водой из ушата и опять ее наказывал, ласково, спокойно, методично. Глаза его горели, как у кота, топорщились светлые усики и уши наливались ярче его розовых щек нежным весенним румянцем.
В отряде привыкли к манере Дулебова и не обращали особого внимания на крики и возню. Эти упражнения так и назывались: объяснения в любви капитана Дулебова.
Удивительно сказать. Савку шаманенка вывели на лед вместе с другими арестантами, но не тронули пальцем. Его одного из мальчишек отпустили с большими домой и даже прикладом по шее ему не досталось.
Савка рассудительно приписал свою удачу заступе дедовых дьяволов-духов, которые, так сказать, дали ему аванс в счет его будущей силы и власти над ними.
В ту же ночь он принял шаманскую силу от умирающего деда и стал молодой, «ново-вдохновенный» шаман.
Палладий Кунавин был красный поп. Савка Слепцов представлял новое диво. Это был красный шаман. Красные попы, пожалуй, попадаются всюду. Но красные шаманы доступны только Колыме.
Убитые лежали у проруби на льду, и голодные собаки приходили и лизали их кровь. Эта картина подействовала даже на белых. И тут почему-то Дулебов решил запросить сурового полковника.
— А что делать с покойниками? — сказал он Авилову. — Ведь воздух заражают. Нельзя их оставить. Опасные такие даже после смерти.
Он жаловался на покойников и как будто хотел продолжать забаву и расправу над мертвыми телами.