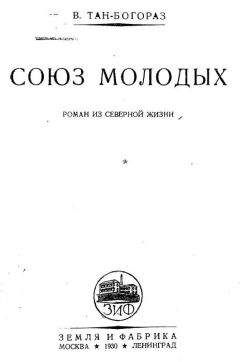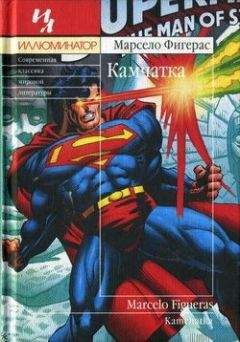— А что делать с покойниками? — сказал он Авилову. — Ведь воздух заражают. Нельзя их оставить. Опасные такие даже после смерти.
Он жаловался на покойников и как будто хотел продолжать забаву и расправу над мертвыми телами.
— Сожгите их, — спокойно посоветовал Авилов.
— Да как я их сожгу? — спросил с удивлением Дулебов. — Ведь здесь крематория нет.
Крематорий — это печь для сжигания трупов. В Москве и Ленинграде до сих пор не успели построить крематорий, не то что в Колымске.
— Не в крематории, так в банке с керосином, — отозвался Авилов. — Вот вам и крематорий.
Недолго думая, Дулебов сговорился с поселенцем Шакиром Бисуровым, тоже башкиром, но только уголовным и ссыльным. И взялся Бисуров за умеренную плату, за папушу табаку и доску кирпичного чаю, незамедлительно сжечь всю эту дюжину покойников. Это выходило на деньги по гривеннику с туши. Но в Колыме вообще, как указано, на деньги не считают.
Бисуров действовал так же нелепо и ужасно, как его наниматель Дулебов. Повинуясь указаниям начальства, он достал три пустых керосиновые банки и стал резать на части тела, накладывая их в банки доверху. Одно человеческое тело едва поместилось в три банки. Банки эти он вывез в лес, развел большой костер и поставил в огонь. Разумеется, не вышлю ничего. Пришлось эти банки выпростать в огонь и жечь, что там было, пока человеческое мясо и самые кости не обратятся в пепел.
Два раза съездил на реку Бисуров, рубил человечину на части и замазался весь, как мясник, и в общем за полдня сжег три трупа. Потом он потерял терпение и вывез в лес все трупы, один за другим. Здесь у костра, чтоб не вовсе отойти от духа приказа начальства, он все-таки резал и крошил человечину, но клал ее прямо в огонь без всяких бидонов и банок. К вечеру обессилился, не кончил, и остался ночевать у покойников, затем, чтоб лисицы и вороны не очень растаскали казенное мясо казненных.
Два дня длилась эта ужасная работа колымских людоедов. Столб дыма стоял над заречным лесом, ветер тянул, разумеется, к городу, и дым простилался над домами жирной и черной струею. И жителям казалось, что из дыма сыплются порою на город какие-то странные хлопья. То были черные снежинки прилипчивой сажи злодейства, покрывшей колымские дела и людей, и мертвых и живых. Она тянулась от мертвых к живым и пачкала их и душила их.
Жители жмурились, затем, чтоб не видеть, но тем яснее видели все сквозь закрытые веки. Воочию видели трупы и черного башкира-палача в работе над мертвыми телами. На другой день стало невмоготу терпеть. Слухи поползли, такие же черные, как сажа, и неуловимые, как дым: шаманит Шакир, белые шаманят, накликая заразу на город, — колотье, красную оспу и еще более страшную, мелко-пятнистую корь. На севере шла невинная корь — страшный бич для туземцев и для русских.
— Где наши колымские шаманы? — спрашивали жители с тоской и гневом. — Отчего не заступят за нас.
И скоро, в различных углах, без спроса, без зова, раздалось негромкое пение и постукивание бубнов. То были шаманы различных племен и уклонов: юкагирских, чуванских, омоцких. Все они в обычное время шаманили прямо по-русски, давно утратив родное наречие. Но в эту ужасную ночь они говорили словами непонятными даже для духов помощников, полузабытыми фразами, которые чуть копошились в их темном сознании. Духи уж как-нибудь поймут, или можно позвать духа переводчика с туземного на русский, ибо меж духами тоже бывают переводчики и даже получают за это особую плату.
С духами выйдет по-хорошему, но беда, если это шаманство поймут русские живые дьявола, которые вдруг завладели Колымском.
Между прочим и Савка якутенок обновил в эту ночь свою силу, только что полученную от деда шамана. Дед скончался в самый день расстрела от волнения за внука. Но все-таки успел передать ему, что надо.
Общий смысл всех этих заклинаний был один: шаманы проклинали этих белых и всех их вождей и большого, с ледяными глазами, и длинного, с стеклянными донцами поверх носа (пенснэ), и маленького, с красными глазами, как у бешеной лисицы, и старались навлечь на них всякие бедствия, призвать на них духов убийц, пятиголовых, с железными зубами и собственные их убийства обратить против них, в кости вогнать им заразу, сделать их душу текучей, как вода из дырявого котла, тоску нагнать на них, чтобы они обратились, откуда пришли, и погибли по дороге, рассыпались рубленым мясом и распылились, как кровь.
Савка шаманенок, в порыве молодого вдохновения, решился на дерзкую штуку. В дремучую полночь он перешел через реку и поднялся на берег к зловещему месту сожжения.
Там все еще дымился последний костер, и в жирном пепле мерцали угольки, как тусклые взгляды покойников.
При этом тусклом свете Савка собрал несколько частиц, прилипших к разбросанным обрубкам, и вынул из огня уголек железной ложкой причудливой формы, взятой из дедова наследства. И в этом угольке он спалил последние частицы мертвецов. И этим последним зловещим огнем он проклял одновременно черного Шакира Бисурова, последнего раба, и белого Викентия Авилова, главного начальника пришельцев.
После того он завалил огонь снежными глыбами, сколько мог, изгладил следы ужасной работы башкира и вернулся домой. За эту ночь он постарел на десять лет. Перестал улыбаться и болтать и стал, несмотря на свою полудетскую юность, удивительно похож на деда своего, Савву шамана, якутского протопопа.
_____
Авилов не думал о трупах или заклинаниях. На уме у него было другое. Он приказал Архипу Макарьеву принести ему точные списки всех жителей города Колымска и ближайших заимок.
— Если для раскладки, так сделано раньше, — мрачно отозвался Архип.
Авилов улыбнулся.
— А, может, для раздачи товаров, — сказал он двусмысленно. И в голосе его звучала насмешка и вместе как будто обещание.
Растрепав эти списки, не гладя, из самой середины, Авилов достал наудачу один. Это был список домов и семейств заимки Веселой. Она лежала на полдороге между Средним и Нижним Колымском и попалась Авилову первая.
Он посмотрел список. Там было десять имен, но против восьми стояли черточки, и только против двух положительные крестики.
— Жителей двое, — прочитал Авилов подпись под чертою. — А куда остальные девались?
Макарьев посмотрел на него с недоумением.
— Разъехались которые.
— Митрофан Куропашка?
— Померли иные, — отозвался Архип.
— Натаха Щербатых?
— Рассыпались розно, — ответил Макарьев.
Ответы его были, как выписки из актов Московского царства. Жители померли, рассеялись, разбрелись розно.
Авилов долго молчал. Потом спросил в упор, уже не скрывая интереса.
— А какие остались живые?
— Там написано, — сказал Макарьев. — Гуляевы живые да Шкулевы.
— Не о том, — сказал Авилов. — Я спрашиваю: из девок Щербатых какие остались живые?
Макарьев поднял голову и поглядел ему прямо в глаза. Авилов выдержал его взгляд совершенно непринужденно.
«Слепая макура! — мысленно обругался Архип по собственному адресу. — Затмило глаза».
Авилов улыбался. Он не имел ничего против того, чтобы его признали. Но Макарьев был попрежнему мрачен.
— Бабушка Натаха померла у нас же в Середнем недавно, то есть летось.
Авилов ждал в молчании.
— А Дуняха, ее дочь, — продолжал Макарьев бесстрастным голосом, — потонула во льдах за нерпями, невступно лет десять… По-нашему — Дука, Дуняха…
— А мальчик? — спросил неудачливый отец. Несмотря на его самообладание, у него пересохло во рту и горько щипало в глазах. Может быть, там собирались непривычные слезы.
— Есть мальчик, — ответил Макарьев бесстрастнее, чем прежде. — Но только сейчас его нету. Тетка его, Лимпиада, есть эттока (здесь). Лимпиада, по-нашему Липка.
— Пошлите ее, — сказал Авилов с оживившимся лицом.
Липке-Лимпиаде было немного за тридцать. От мужа она овдовела и осталась с двумя дочерьми. В мужниной избушке на Верхнем Якутском Конце она бедовала, не лучше Голодного Конца. Лицом и повадкой она вышла в бабушку Натаху, свою мать. И соседи, отбросив ее мужнее прозвище Уваровых, стали называть ее по матери, Липка Щербатых. Было похоже на то, что Липка откроет новую Щербатую выть, материнскую семью, которая вместо Наташонков будет называться Липчонки.
Через десять минут Липка стояла пред Авиловым. Взгляды и одежда, далее повязка с прорезом на темени, были у ней, как у бабки Натахи, только лицо у ней было моложе и волосы черней.
— Здравствуй, Викентий! — сказала она совершенно спокойно, как будто только вчера рассталась с зятем.
Авилов даже руку протянул. Липка взяла ее, нагнулась и приложилась губами, как будто к руке архиерея. Авилов вздрогнул.
— Чего ты, дикоплешая (сумасшедшая)! — крикнул он.
— Наше дело низенькое, — ответила Липка. — Вы, господа, вы мужчины, вы русские, да бог знает кто. Мы себе девки для издевки.