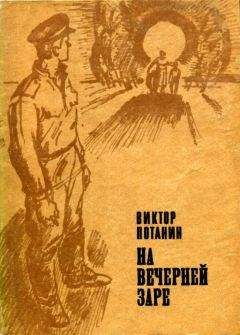Женя вдруг замер, оперся на локти и поднял голову.
— Послушай, ты смерти боишься?
— А полегче ты что-нибудь можешь?
— А ты ответь.
— Не знаю. На такие вопросы надо в мокрый день да в ненастье отвечать, а сегодня такое солнце... — Я попробовал отшутиться, но он не принял этого и как-то вяло заморгал, поджал губы. Потом дотронулся до меня:
— А Дыньку, слышь, через день увезли. Еле отводились врачи... Отводились да не совсем... — И он смолк, потом тихонько заплакал. Я слышал, как он вздрагивает, как сопит. Ах, боже мой, так себя доводить!
— Успокойся, Женя, не надо...
— Ты не знаешь, не знаешь! А мне нет прощения. И не будет. — Он еще что-то бормотал, но я плохо слышал. И тогда я его попросил:
— Ты хоть закончи. Доскажи по порядку. Он усмехнулся:
— По порядку, говоришь? Какой может быть порядок? Я тогда к Ольге бросился, схватил ее, а люди все видели. А раз видели, то и муж узнал. Она пришла домой, а он уже наготове. И все на ней в ту ночь побывало — стулья, книги, ухваты. А дочка переживала. Но всему бывает конец. Есть конец и терпению. Так и тут. Дынька бросилась на него с кулаками. Боже мой — не с кулаками, конечно, с кулачками. Он опешил и растерялся. Потом Ольга стала дочку оттаскивать, а она уж кричала, не понимала... — Женя достал сигарету и закурил. Перехватив мой взгляд, улыбнулся.
— Вот, привыкаю.
— Зачем привыкаешь?
— Да все же лучше. Закуришь, и как-то спокойнее, а то совсем погибаю.
— Так все-таки погибаешь?
— А что делать?.. Дынька тогда из рук Ольгиных вырвалась и на улицу. В одном тоненьком платьице и в чулочках. Мать-то за нею, но ее и след простыл. Ольга как упала на прясло, так и лишилась чувств. Сколько пролежала так, никто не знает. А пришла в себя, так сразу и догадалась. Повернула голову, а стайка открыта. Она — в стайку и на дочку упала. А Дынька лежит в ногах у коровы и тихо плачет. А корова стоит над ней, как над мокрым теленком и согревает дыханием. Это дыханье, эта корова и спасли ее. Занесли Дыньку в дом и сразу за фельдшером, а тот в машину ее и в район. Ноги-то у нее сразу распухли от холода. Но с одной-то ногой отводились врачи, а с другой не смогли. Возле ступни ее и отрезали, так прямо взяли и отняли. Вот так, дорогой. Дожила наша Дынька... — Он опять громко задышал, отвернулся, и я понял, что он прячет-слезы.
— Где они? Где сейчас?
— Нет их, конечно, в Песчанке. Уехали в Свердловскую область. Есть там рабочий поселок — там и живут. Ольга приезжала, правда, сниматься с учета. И мы встретились. Иду я по улице, и она идет. Я шаги замедляю, и она замедляет. Последний шаг делаю, как по канату. Она рукой мне по лицу провела. И только два слова сказала: «Прости меня». Сказала и повернулась спиной, а я остался, как вкопанный... С тех пор их не видел. В прошлом году был в Свердловске на совещании, так ездил в этот поселок. Да что там! Постоял на платформе, а в улицу не спустился. Так и не смог. — Женя вздохнул глубоко, оперся на локти и приподнялся. В его лице было столько страдания, что я отвернулся. Но он опять говорил, точно мучил себя:
— Сам я тоже сбежал из Песчанки. Живу здесь, как барон, а счастья нет... Нынче был в той Песчанке и к Шелеповой заходил, повстречались.
— Ну и что она?
— Шелепова-то? Сразу догадалась старуха. Ты, говорит, плачешь по той, тоскуешь. А мужик ее, Михаил Николаевич, уже три года в земле. Поехал в рейс да перевернулся по пьяному делу. Пьют дак. Никак от ее, матушки, не отвыкнут, — передразнил Женя старуху и опять потянулся за сигаретой. — Смотрел я тогда на Шелепову и делалась она мне ближе, роднее. Вышел во двор, потом в свой переулок. И так мне Дыньку захотелось увидеть, что я чуть не крикнул от боли. Ночевал я у Шелеповой, и снилась мне девочка. Будто иду я с ней по темному бору, и надо быстро идти, а она не может успеть за мной, запинается. Я мучаюсь, а она отстает. Я ругаться хочу и вдруг вижу — она хромает. Что с ней, почему? Потом понял — это ж после больницы. Из-за меня Дынька хромает, из-за меня... Проснулся весь в холодном поту. Как мне жить теперь, как на людей смотреть? И неужели Ольга может простить? Да и сам я могу ли без Ольги?..
— А женился ты, Женя, зачем?
— А я с горя женился. Клин клином, думаю... Знаешь как...
— А как сын, школа?
— А что школа?
— Ты же к ним собрался? Ты же уедешь? — И снова я спросил о том, о чем не хотел. Женя молчал и не шевелился. А плечи сошлись вместе, как будто ждали удара. — Ты прости, Женя. Сорвалось с языка.
— А чего прощать, чего извиняться? Зачем я вызвал тебя... — Он поднял голову еще выше. — Но что делать мне? Ты скажи мне прямо, ты в лицо мне скажи...
Я посмотрел на него внимательно, как будто на брата своего посмотрел и вдруг понял, что жизнь у Жени Енбаева будет трудной и страшной, а может, и невыносимой совсем. Еще подумал, что уже ничего нельзя с этим поделать, что он уже сейчас далеко от меня, что он уже так далеко, как будто на другом конце света, как будто где-нибудь в океане. И еще я подумал, что в этой жизни мало быть честным и чистым, мало быть хорошим и смелым, надо еще выбрать один-единственный путь. А если свернешь с него, если споткнешься, то все равно будешь приносить близким только боль и страдание, одну только боль...
— Что делать-то? Посоветуй? Почему ты молчишь?..
С реки донеслись голоса, это прибежали купаться ребятишки. Они играли в воде, резвились. А солнце било уже в тополь не прямо, а сбоку, но дереву это, наверное, нравилось, потому что стало прохладней. Тополь шевелил листвой и чуть слышно дышал, и это дыхание меня успокаивало.
Катерина Егоровна прожила на свете шестьдесят лет. Все годы на одном месте. Перелетных кукушек не любила. И другая слабость держала на месте: считала себя бабой убитой, бессильной, такие, мол, и дома-то в тягость.
По улице ходила, глубоко склонив голову, в старости — от болей в спине, молодая — от стыда: нижнюю губу далеко разломил мужнин кулак. Муж Иван, вольный, подвижный, любивший себя и водку, спускал ей кровь, капля по капле. Надоевший всем, он износил сердце дома. Пьяный, голый катался в сугробе и требовал от нее удивленья и страха, летом ловил в ограде гусей, с маху рубил им головы, а то целил в Катерину из ружья, считая до трех, и гоготал.
От такой жизни пал в глаза вечный недуг, стала лысеть. Голова оголялась длинная, матовая, как гусиное яйцо, потому ходила в твердом платке, только в бане снимала.
Когда брали Ивана на фронт, попросил прощенья. Она сказала:
— Что было — все наше. После смерти — поделим.
Он взглянул на нее блаженно, как на ребенка, и заплакал.
Через год принесли похоронную. Она ей не поверила и в своей правоте усмехнулась: «От моего и пуля отскочит...»
Так и вышло: после войны объявился Иван в дальнем городе, сошелся с другой женщиной, а про семью не вспомнил. И тогда Катерина забылась сыном. Сын вышел в отца: заносчивый и крикливый, дразнили его в школе — «Буржуй». Сидел в заднем углу, наблюдал за всеми зло и настороженно, ерзали по парте худые кулаки. Было плохо с бумагой, он отбирал у всех лишние тетрадки, продавал за медные деньги своим же, пятаки прятал в длинный матерчатый мешочек, копил на ружье. Пока не имел ружья, стрелял в птиц из рогатки, мертвых воробьев сажал на веревочку, обматывал веревочкой шею и так ходил по деревне. Сзади бежали ребятишки.
— Буржуй с охоты пришел!
— Продай воробьев-то?
Он бросал через плечо:
— Я их изжарю! — глаза наливались радостью, белый хохолок на макушке шевелился. Худо росли волосы, и Катерина мазала их маслом, кропила мартовской целебной водой, они не подвигались. «Безволосый — будет несчастный», — думала она тоскливо и еще пуще любила сына.
Ее часто вызывали в школу, ругали за Гришу. Она повторяла директору одно и то же:
— Мы люди последние. Сироты.
— Он по карманам шарит! — упрямился директор, смущенно отвертывал глаза.
— Напраслина. Он дома шелковый... Книжки читает! — лгала Катерина, смотрела преданно, не мигая, и директор, человек мягкий, приезжий, утешал ее, обещал заняться сыном.
— Вам все зачтется... Зачтется перед смертью... — вспыхивала Катерина и хватала его благодарно за пиджак, внезапно пожимала одну руку, потом другую, в глазах набухали слезы. Он провожал ее до дверей, как больную, и свободно вздыхал, когда стихали шаги.
Гриша вырос быстро, сразу уехал в город. Учился в железнодорожном училище, стал работать в депо. Писал редко. Только в праздники присылал красненькие открытки, а в них так мало слов — почтальонки стыдно.
Когда женился, отбил телеграмму. Потом приезжали на день. Жена Надя, веселая ни к месту, наглая по-сорочьи, привязчивая, вила из сына веревки. Гриша ей подчинялся, не смел осердить, ведь она принесла в дом большое приданое. Избалованная мужским вниманием, — работала до Гриши официанткой, — Надя все время вынимала из сумки зеркальце и вытягивала перед ним губы. А по утрам натирала щеки белым молоком из тюбика, но они все равно казались дряблы, бессильны. «На мужиков издержалась, — сказала себе Катерина, но сразу утешилась: — Раз сошлись — пусть живут...»