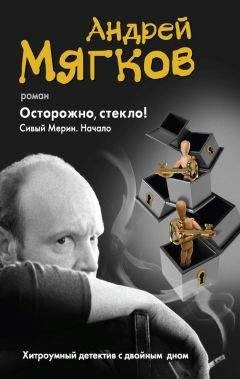— Ну, это не значит, что к Лбову примкнули.
— Нет, значит-с! Артельщик-то рассказал: платину брал не ингуш, а русский и заявил артельщику: — «На революцию».
Макар ошеломленный ушел от исправника.
Дома на Макара ворчал Яков:
— От вас вся эта смута пошла. Раздуваете свои дела не в меру… Отцы наши проще жили, и жизнь была ровней и спокойнее.
Макару казалось, — отец радуется, что его избили ингуши. А Яков вразумительно продолжал, ехидно косясь на сына:
— Подбираете палку для народа, а эта палка-то по вам же ездит! Хорошо!.. Они, брат, эти ингуши, не толь-go нашего брата лупят, а и господ не щадят. Вон, восеть, дохтору надрали, Кузнецову… Насыпали по первое число, и хоть бы тебе хны. Лежит теперь Василий Петрович, хворает, ничего что дохтур!
Сидор Красильников, расчесывая пятерней широкую бороду и прохаживаясь по комнате, вторил Якову:
— Я никогда зря не скажу, Макар Яковлич. Ингуши— это наше зло… Это на нас кара небесная — божья рука. Недобрый народ восседает у российского царева трона. Когда царь один правил нами — лучше было, а вот теперь эта Дума государственная, сидит она думает и выдумывает. Народ не зря волнуется. Право народ ищет и найдет свое право, от которого нам будет горше, чем сейчас.
Макар на этот раз слушал тестя внимательно, следил за ним глазами, а Красильников, закинув за спину руки с красным платком и табакеркой, размеренно ходил по комнате. Говоря, он вскидывал глаза к потолку, отчего брови его поднимались, умножая морщины на лбу.
— Откуда все это появляется? Из недовольства народного! Народ… Он у нас терпелив, а уж коли развозится, так показывай, где зудит. Степан Разин откуда пришел? Из народа. А Пугачев Емельян?.. Не с неба они падают, народ их рождает в лихие годы своей жизни, когда цари неспособны к управлению. Царь, Алексей Тишайший, — что он? Наши прадеды недаром отреклись от него и бежали в скиты потому, что он допустил к престолу своему Никона. Веру христову извратил. А царица Екатерина? — распутного поведения была. Народ все видит. Народный глаз — глаз божий… — Красильников Щелкнул пальцем по табакерке, торопливо сунул в ноздри по щепотке табаку и продолжал: — И теперь то же самое. Бунтует народ.
…Завалившись в глубокий коробок, Макар ехал на Безыменку. Лес радостно шумел, играя с теплым ветром, Разгулявшимся в глубоком весеннем просторе. В гуще кудрявых сосен смело кричали, пересвистывались птицы. Оттаявшая земля дышала паром.
Каллистрат неумолчно говорил. Вчера он выслушал новую историю о «беспорядках».
Слушая Каллистрата, Скоробогатов вдруг беспокойно завозился, достал из кармана увесистый вороненый браунинг и положил его возле себя.
На Безыменке его встретил Телышков обычными словами:
— Все благополучно, Макар Яковлич!
— Врешь!.. Давай-ка мне, позови Никиту Сурикова
Суриков, громко постукивая березовой балодкой, вошел и встал у дверей.
— Ну, «шибко-сторож», рассказывай, как проворонил в ночь на пасху. Нахристосовался, поди, накануне праздника?
— Не…
— Чего нет?
— Не пил… Трезвый был, как стеклышко!
— Как склянка?
— Не…
Суриков исподлобья смотрел на хозяина налитыми кровью опухшими глазами.
— Ну, как дело-то было?
— Урядник был, выспрашивал…
— Что мне урядник. Я, хозяин, тебя спрашиваю.
Никита потоптался, обводя глазами комнату, и глухо проговорил:
— Темно было, филинья много было…
— Какого филинья?
— Ну, филинов много налетело, и все время буткали в лесу, а в лесу-то хоть шары выткни.
— Причем тут филины?
— А больно их много налетело… Не люблю я эту птицу… Жутко… Ну… я и ушел в караулку, а потом слышу, народ… Я было кричать, а они к самой глотке револьверы подсунули…
— Ну?
— Ну и все…
— И ушли?
— Не… Слышал я, как там орудовали…
— Чего орудовали?
— А кто их знает. Бают, диомид брали.
— Ну, а потом, когда ушли?
— Чо?..
— Чего ты сделал, как ушли эти люди?
— А я чего?.. Как я?.. Они подложили на порог бомбу и говорят: — «Как, — говорят, — выйдешь, так и ахнет»
— Ну?
— А как — я?..
— Чего ты?
— Сидел…
— Сидел?!
— А что мне башку свою подставлять, что ли? — нетерпеливо заговорил Никита. — Жисть-то мне дороже твово диомиду. Я и так всю ночь просидел, задницу отсидел.
— Да и бомба-то не бомба, Макар Яковлич, а просто банка железная с песком, — вмешался Телышков.
— А я почем знаю? Ты и сам утром-то отскочил от нее, как ошпаренный, — сердито крикнул Суриков и, решительно повернувшись, пошел. — Негож, не надо — уйду! Недорого дано! — и, хлопнув дверью, он закончил свою речь веским словом.
В этот день Скоробогатов позвал ингуша Гайнуллу и спокойно сказал:
— Ваши услуги мне теперь не нужны. Получите расчет и уезжайте.
Ингуши исчезли не только с приисков, но и из Подгорного. Население облегченно вздохнуло. Скоробогатов тоже успокоился; теперь ничто не напоминало ему о Пылаеве.
Владения Скоробогатова расширились, он захватил и смежные Акимовские лога. Об этом мелкие старатели еще не знали.
Объезжая как-то раз верхом лога, он наткнулся на «шаромыжника».
На воротке работала Фимка. Она постарела, тело стало костлявым.
«Истрепалась, — подумал Скоробогатов, — одни мослы остались»…
— Кто там? — спросил он, указывая на шурф.
— Гурьян, — испуганно глядя на Скоробогатова, ответила Фимка.
Сошников вылез и, сбивая с ног бурую липкую глину, Растерянно поздоровался.
— Право есть у тебя на это место? — спросил Макар не отвечая на почтительный поклон Гурьяна.
Гурьян смешался:
— Я… Я, Макар Яковлич, пробу беру, чтобы наверняка заявку сделать.
Скоробогатов подумал, прищурив глаза:
— Валяй… Только ты того, интерес-то мне неси… Я дороже даю — по четыре с полтиной.
— Хорошо, — поправляя смятую фуражку, согласился Гурьян.
— Смотри все, — слышь?..
— Ладно, ладно, Макар Яковлич! — уже в догонку закричал Сошников.
На другой день Скоробогатов побывал у Маевского. С этого дня он стал зорко следить за работой Гурьяна.
Дня через два к нему заявился Ахезин и спросил:
— Ты, друг ситный, решетом прогроханный, не видишь, у тебя под носом шаромыжат хищники?
— Кто?
— Гурька…
— Знаю, не твое дело!
Ахезин посмотрел на Скоробогатова снизу вверх и расхохотался: — Э-э-э! Умен!
— В чем дело?
— Так я, про себя!
— Нет все-таки?..
— Ну, чего ты добиваешься? Тебе, поди-ка больше знать, что ты замыслил.
— Не понимаю я тебя, Исаия Иваныч.
— Ты давно меня отвык понимать, а я вот все еще тебя понимаю и вижу, насквозь тебя вижу, куда ты метишь, какие турусы на колесах подводишь.
— Ничего ты не видишь.
— Ну, так до увиданья! Шибко прошу у тебя прощенья за мое беспокойство.
Ахезин нахлобучил картуз и отправился, постукивая палкой и напевая что-то божественное.
Вечером пришел Сошников. Он боязливо переступил порог, снимая фуражку.
— Давай проходи, проходи, — добродушно проговорил Скоробогатов. — Принес?
— Принес!..
— Да ты не бойся… Смело сдавай, как в контору сдаешь.
Гурьян запустил руку в глубокий карман плисовых шаровар и вынул красную тряпицу.
Макар развернул и залюбовался. Красноватым светом освещало заходящее солнце небольшую, но увесистую кучку платиновых крупных зерен.
— Ого!
— Силов мало у меня, Макар Яковлич!
— Что так?
— Порода крепкая.
— Зато и платина крепкая.
Макар добросовестно расплатился. Утром на другой день он заехал к Гурьяну. На вороте у шахты никого не было. В шалаше спала Фимка. Из глубины шахты глухо доносились удары молота. Макар заглянул в черную яму. Гурьяна не видно было. Каждый удар молота сопровождался тяжелыми вздохами и звуком:
— Кха… кха… кха…
Скоробогатов быстро пошел прочь от шахты, обдумывая, что предпринять, если Сошников докопается до хорошей жилки. Совесть нашептывала ему, что он недоброе замыслил против старого своего работника… Он сказал сам себе:
— «Наживи капитал, чтобы ты был первым, тогда и царь будет делать, что ты захочешь».
Но совесть продолжала нашептывать — «Нужно было предупредить, что лога твои… Воротись, скажи Гурьяну правду. Ведь он честный, трудолюбивый человек, любит работу, любит землю. Тянется к счастью. За это счастье он спит в шалаше на холодной земле»… Однако Скоробогатов отмахнулся от этих мыслей.
Недели три Гурьян не показывался. Потом пришел веселый и принес увесистый сверток все в той же красной тряпице. Сдавая платину, он спросил:
— Не знаю, как быть, Макар Яковлич.
— Что?..
— Заявку буду делать на ложок.
— Ну?..
— Не все причтется тебе сдавать тогда.