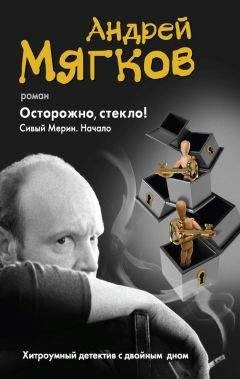Недели три Гурьян не показывался. Потом пришел веселый и принес увесистый сверток все в той же красной тряпице. Сдавая платину, он спросил:
— Не знаю, как быть, Макар Яковлич.
— Что?..
— Заявку буду делать на ложок.
— Ну?..
— Не все причтется тебе сдавать тогда.
Макар нахмурил брови. Он что-то обдумывал. Потом быстрым движением потер лоб и сообщил:
— Не придется…
— Как?
— Лога эти мои. А ты завтра же прекращай работу. Я сам буду там работать.
Сошников удивленно раскрыл глаза.
— Да как же так, значит — я…
— Не спросившись броду — сунулся в воду. Иди, жалуйся… Думаешь, тебя похвалят… Ведь ты хищничал. Работал без всякой заявки. Ты, друг, говори спасибо, что я тебя не представил по начальству. Я мог эту платину у тебя без копейки взять. Но я этого не хочу. Получил, — и поминай Скоробогатова.
Сошников чуть не заплакал от закипевшей злобы. Трясясь всем телом, он запрятывал полученные деньги в карман. На впалой щеке его играл желвак.
— Ну ладно, — со вздохом проговорил Гурьян, — только ты это помни, сударь!
Он не заметил, как в комнату неслышно вошел Телышков.
— Ты кому это грозишь, белобрысый кобелишко? — заговорил он.
Гурьян обернулся.
— Сволочи! — тихо сказал он и быстро вышел.
— Эх ты-и!.. Вздуть надо, ей-богу. Доброй ты души человек, Макар Яковлич! Хищники у него же шаромыжат, а он с ними по-честному расплачивается… Да я бы…
Сошников все-таки не опустил руки. Через некоторое время он обосновался в смежных логах. Ложки были богаты и привлекали к себе старателей. Особенно в это дождливое лето работать было хорошо — лога не пересыхали. Старатели находили и другое удобство: на Безыменке можно было закупать продукты в лавке общества потребителей, — в «грабиловке», как называли рабочие, — и сдавать платину Скоробогатову. А у Баландихи — разгульной, костлявой бабы — всегда можно было найти водку.
В полуразвалившейся избенке, на окраине прииска, Баландиха нашла себе приют.
Похмельная, грязная, ранним утром она выезжала с прииска, в Подгорное за водкой на своей маленькой вислогубой лошаденке. На другой день под вечер возвращалась. На прииске Баландиху звали Маша, ее коня — Шимка, а поездки в Подгорное — «транспорт».
— Вон Маша катит с «транспортом».
В глубоком коробе с увесистой палкой, которой она подгоняла Шимку, Маша ехала мимо разреза к своей избушке.
Первым посетителем обязательно был стражник — грузный, разжиревший Филатыч. Он воинственно шел за коробом. Маша не смущалась. Пока она распрягала лошадь, Филатыч дожидался, сидя на завалине.
— Что, ревизию, поди, назначил?..
— Кончай, потом поговорим! — строго отвечал Филатыч.
— И говорить с тобой не буду. С тобой один разговор, — Маша доставала из-под сена со дна короба бутылку казенки с красной сургучной печатью и подавала Филатычу, говоря: — Лопай, чтоб у тебя пузо твое сгорело!
«Ревизия» на этом кончалась. Филатыч совал бутылку в карман и уходил.
Вечерами у Маши собирались парни, — пили, играли в орлянку, Жестоко дрались березовыми тростями. С ближних приисков приезжали старатели, с перевешанными через седла кузовами, нагружались водкой и уезжали. «Транспорт» шел дальше.
В это лето Маша особенно бойко торговала. В смежных логах собиралось так много народа, что эти лога звали уже не «Акимовскими», а «толчком». Там все было изрезано канавами, прорезами. Дождевая вода катилась с гор в прорезы, а оттуда бойкими ручьями растекалась по логам.
Ахезин распоряжался у отводных канавок. Он старался держаться ближе к скоробогатовским разработкам.
— А что вы думаете, ребята, если бог в дожде вам откажет? — спрашивал Ахезин старателей.
— Не знаем, Исаия Иваныч!
— Вот погодите, — на будущий год откажет!
Но старатели об этом мало думали, — они жили настоящим днем. Да и не к чему было заботиться… Посматривая на небо, они определяли:
— Кичиги выползают, — зима скоро.
Все же, уезжая с приисков, они завистливо поглядывали на скоробогатовские работы, которые не прекращались и зимой.
Следующий год, действительно, оказался засушливым. В «вершинах» работы прекратились, только в низовьи кой-где еще копошились люди в мутных ручейках.
Связчикам, — Гурьяну Сошникову и Малышенко Михаилу, — не хотелось бросать работы. Главное Сошникову. Зимой он поставил крепкую новую избу в Прохоровке и уже прирос к месту и к своей Афимье.
Бездельничая в приисковой избушке, они придумывали: как достать воды?
Пустые шахты чернели квадратными дырами… Солнце немилосердно припекало. Бурые отвалы породы растрескались.
Как-то раз Малышенко и Сошников шли логами вместе с Ахезиным.
Ахезин, ехидно прищуривая глаза, спросил:
— Что, ребята, пить охота?.. А знаете, почему водицы в логах не стало?..
— Бог знает, — ответил Сошников.
— И бог знает, и я, — сказал Исаия. — Что вам невдомек, вы спрашивайте Ахезина… Он вам все растолкует. Вот здесь стоял бор… Рамень была непроходимая. Пришел Скоробогатов и вырубил лес. Ложочки-то пересохли. Ему для паровой-то машины много лесу требуется. Она кушает, сердечная, за ваше здоровье, а теперь тот участок он откупил на сруб. Оголит. Горки-то линяют. Такие же становятся как вот эта голова…
Ахезин снял картуз и пошлепал по лысине:
— Голо! Зато вошь не заведется!
Слова Ахезина поразили Сошникова. Они вызывали непримиримую ненависть к Скоробогатову.
— Макар Яковлич, как вошь в коросте сидит, теперь и не выковырнешь скоро-то его, — продолжал Ахезин.
Малышенко не слушал. То, о чем говорил старик, он слыхал от своего покойного отца. Его занимала другая мысль. В раздумьи он не заметил, как отдалился от спутников и вышел на вершину голой горы. Потеребливая пух черной бороды, он загляделся вниз, в долину, в глубине которой чуть внятно шумела речка Смородинка.
— Вот ее бы подвести сюда! — подумал он, спускаясь в ложбину.
Сошникова в этот вечер занимала другая мысль. Он раздробил кирпич обухом кайла, насыпал в карман и направился в Безыменку, мысленно угрожая Скоробогатову:
— Я тебе сделаю!.. Я тебя разорю!.. Я тебя пущу по миру.
Было раннее утро. Край солнца выглядывал из-за каменистого шихана горы, когда возвратился Сошников. Его успокоило, что Малышенко еще не пришел. Сошников был бледен. На сморщенном безбородом лице светлосерые глаза играли злой радостью, сквозь которую был виден испуг. Взобравшись на земляную крышу балагана, он стал смотреть в сторону Безыменки. Солнце медленно выплывало и, наконец, повисло в безоблачном небе. Через пики елей на горизонте протянулась тонкая пелена тумана, прикрывая лес, погруженный в тишину. Позади в бору перекликались дрозды. Вдруг из-за леса взвилось далекое мутно-серое облако дыма. Завыл гудок. Гурьян, приложив руку ко лбу, стал старательно всматриваться, приподнимаясь на носках.
— Чего это ты? — спросил Малышенко.
От неожиданности Гурьян вздрогнул и как-то неестественно крикнул:
— Пожар на Безыменке, должно быть.
— Бежать надо! — воскликнул Малышенко и исчез в мелкой чащобе.
Только к обеду он возвратился, закопченный, оборванный, усталый.
— Здорово! — проговорил он. — Сгорел корпус-то.
Гурьян помолчал… Он испытывал волнующий страх и радость.
— Какой корпус? — спросил он.
— Какой? Не знаешь что ли?
— Откуда мне знать?
— Корпус, где чаша стоит… Машинное отстояли… Подожгли, говорят. Ругаются. Скоробогатов почти всех распустил— прекратил работы. Рабочие-то призадумались которые. Только в забоях остались. — Малышенко рассказывал, лежа на нарах. Вдруг он неожиданно спросил: — Ты когда оттуда пришел?..
Гурьяна этот вопрос так и резнул. Он сосредоточенно завертывал цыгарку.
— Вчера еще, вечером! — глухо ответил Гурьян.
Малышенко подозрительно покосился на товарища.
— Я и говорил им, что ты дома.
— А разве что там говорят?
— На тебя думают… Видели тебя вчера там.
— Ну, говорить можно все…
Остаток дня Малышенко ходил как бы в полусне, грезя о чем-то. Когда спустились сумерки и запылал костер, он сказал:
— Пришла мне в голову одна штука… Кабы руки! Дружных ребят сговорить — дело бы вышло!.. А толк будет, ей-богу, — будет…
— Чего?
— Воду подвести из Смородинки.
Гурьян не верил в эту затею.
— Лбом стену прошибить хочешь?.. Не пробьешь, Миша!
— Стену можно обойти. Зачем лоб разбивать?
Дня три они спорили. Обошли гору, которая отделяла лога от Смородинки… и чем больше изучал Малышенко местность, тем глубже становилась вера в успех. Приехал проведать их крепкий мужик Павел Суханов. Он выслушал Малышенко и сказал:
— Ладно, Михайло, я это дело покумекаю. Если что надумаю, так мы начнем орудовать. Я найду охотников и сообча…