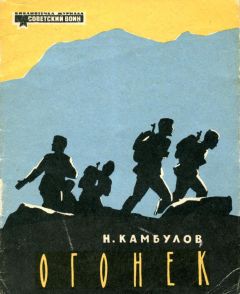— Погоди, кажется, Жишка подъехал. Сейчас вернусь.
Кальман сбежал по лестнице, потоптался на нехоженом месте. Боже мой!
Вернулся, попросил кофе.
— Нет, ошибся, не товарищ Жишка. Чья-то машина проехала.
Кальман курил: три затяжки и один глоток кофе. Марушка открыла форточку и, не отходя от окна, поискала знакомый серп луны.
…Лагеря большого
Граница проходит…
— Закрой форточку… Поют всякую чепуху…
Повернулась от окна:
— Кальман! Янек!
— Молчи!
Он поднял топорик еще выше.
— Янек!..
Кровь залила лицо. Упала Марушка позже, когда уже Кальман грохнул дверью и скрылся внизу с топориком за пазухой, уверенный, что она все равно упадет, умрет — удар был сильным.
6
«Пижма, ты уходишь?» — «Ухожу, Марушка». — «Опять один?» — «Один»…
Это Пижма так, чтобы не уснуть, мысленно разговаривает с Марушкой. Всю ночь посты проверял, а на зорьке решил заглянуть в ловушку, не потревожил ли кто снежный покров, стоит ли тростинка или… Ох, это «или»! Пижма не досказывал, кто мог сломать одинокую и дрожащую на холодном ветру тростинку. Собственно, зорька лишь угадывалась в усиливающемся ветре да в шорохе просыпающихся ветвей. Еще было темно, с трудом разглядывались стволы деревьев, и Пижма шел почти ощупью, наугад. Усталость давила на плечи, слипались глаза. Ночью по телефону с дальнего поста разговаривал с Жишкой. Старик торопит: «Хватит бандюге разгуливать в наших лесах». А под конец: «Ротмистр, сам-то не очень рискуй». О Марушке вспомнил, поэтому «…не очень рискуй».
И все же рассвет наступил как-то неожиданно. Пижма огляделся, заметил белеющие отметины на стволах — Кальман оставил. Дальше запретная зона — нехоженый участок. Пижма хотел было обойти, чтобы не оставлять следов, которые могут сбить с толку пограничников, шагнул в сторону и тут рядом заметил отпечатки ног. Он лег, начал рассматривать следы. Янотка прошел! Усталость как рукой сняло. Снег был глубоким, почти по пояс. Не останавливаясь, прыжками выскочил к лощине.
— Янотка!..
Человек бился в капкане, но не кричал. Пижма подходил к нему медленно, держа пистолет наготове. Сначала над ухом дзинькнула пуля, потом раздался выстрел. Пижма упал. Позади что-то шарахнулось, зашуршало в промерзшем кустарнике. Увидел рога, громадные и разлапистые. Они, покачиваясь, быстро удалялись к скале. Козел вскочил на возвышенность и там, освещенный первыми лучами, застыл, могучий, словно выточенный из самой скалы.
Еще пропели две пули. Пижма крикнул:
— Стрелять бесполезно! Сдавайся!
Пуля не пропела, но выстрел раздался. Если пуля не пропела, значит, в цель. Это Пижма знал. Он поднялся и во весь рост пошел к затихшему человеку. Руки были разбросаны, а возле головы, лохматой, с посиневшим лбом, лежал тяжелый кольт.
— Кальман!..
Да, это лежал Кальман. И как бы Пижма ни сопротивлялся, ни отгонял мысль, страшную и невероятную для него, он не мог не признать Кальмана. Это был он, убийца Марушки. Но Пижма еще не знал об этом злодеянии и поэтому все смотрел и смотрел в лицо Кальману, еще надеясь на какое-то недоразумение. Он освободил ногу от жима, снял сапог… Конечно, на правой стопе не было большого пальца. Потом подобрал выпавшие из сапога листки. На одном из них был список знакомых Пижме людей. В этом списке он нашел фамилию Жишки и свою, по счету предпоследней. Прочитал в конце подпись: «Янотка», а в скобках стояла буква «К».
— Кальман! — крикнул Пижма и наконец понял, что Янотка и Кальман одно и то же лицо.
Шумавский красавец еще серебрился на солнце, доверчиво смотрел в сторону Пижмы. Ротмистр помахал ему рукой:
— Спокойно, дружище, солдат Шумавы на посту!
…Растаял снег. Шумава зашторила небо листвой. В чащобе полутьма. Будто бы спит лес. Но вот вздрогнула ветка, наклонилась, в прогалине — человек в пограничной фуражке: лицо настороженное, виски белые, словно снегом запорошенные. На какую-то долю секунды перед глазами Пижмы Марушка. Шепчет: «Ты уходишь?» Может быть, это ветер, но Пижма отвечает: «Шумава — мой дом, в нем я навечно — солдат».
КОМИССАР И ПРОНЬКА БАБКИН
1
За спиной рокотало море. От ударов волн покачивалась земля. Серое, низкое небо без конца сеяло дождь. Никто не знал, когда утихнет шторм, когда, обессилев, выдохнется небо. Десантники поглядывали на комиссара и ждали ответа. Так уж повелось — комиссар все может. И даже предугадать погоду.
В промозглой хляби густо хороводили разрывы мин и снарядов. Раскаленная докрасна подкова переднего края приближалась к каменоломням, в которых десантники уже вторую неделю, отбивая атаки врага, ожидали поддержку с Большой земли.
Противник стремился сбросить десантников в море — в гремящую желтую пучину. Волны дыбились, тяжело били по скалистому берегу. Самый беспокойный из десантников Пронька Бабкин, взятый в группу из погранотряда, как хорошо знающий участок десантирования, подполз к комиссару и гаркнул во все горло:
— Товарищ комиссар, вот те крест, шторм на две недели! Подохнем с голодухи! Надо поселок брать! — Тронул рукой комиссарово плечо и скривил большой рот: Шпагина подергивала мелкая дрожь. — А-а, — вздохнул Пронька и тяжелой глыбой покатился на свое место, под штабелек камней. Повар группы Мухтар Мухтаров ожег Проньку свирепым взглядом:
— Сапсем сдурел! Ти зачем на комиссар кричал?
А Пронька Мухтару на ухо:
— Дрожит, ни жив ни мертв. Понял?
— Твоя неправда, Бабкин!
— А жрать нечего — тоже неправда? — Пронька отстранил Мухтарова от пулемета, ударил длинной очередью по живым согбенным фигуркам, вдруг показавшимся на мокром взгорье, неподалеку от домика. Немцы шарахнулись в сторону, но двое из них, покружив на месте, упали. Пронька был убежден — эти гитлеровцы больше не поднимутся. Оглянулся к Мухтарову и своим глазам не поверил: на желтой ладони азербайджанца лежала румяная лепешка…
— Бери, ты хорошо стрелял. Бери…
Пронька проглотил слюну, заколебался было.
— Бери. Всем хватит.
— Пошел к черту! — решительно отказался Пронька и припал к пулемету. — Уходи, я не голоден…
Это еще не приступ малярии — предболье болезни. Приступ начнется после обеда: Шпагин знал, в какое время начинается приступ, а он обязан сегодня, как и все эти дни болезни, держаться… И не только держаться, но и скрыть свою болезнь от солдат. Это самое трудное. Но… комиссар все может! Так уж повелось.
Сегодня тем более: получена радиограмма, что в пятнадцати километрах севернее каменоломен высажен новый десант наших войск и что необходимо соединиться в одну группу. План прорыва уже разработан. «Эх, Пронька, а вчера что ты сказывал? Не паникуй, мамаша! Фрицу конец пришел».
Они, Шпагин и Пронька, вчера ходили в разведку. Утром поднажал дождь. На пригорке, у подножия которого укрывались разведчики, показались три расплывчатые фигуры. Послышались сердитые голоса: шла перебранка. Пронька протер глаза, сказал:
— Смотрите, товарищ комиссар, бабы корову гонят.
Корова с белой шеей, черными боками уперлась в скользкую землю короткими ногами, рыжее вымя ее с толстыми распухшими сосками волочилось по мокрой траве. Худенькая девчушка, промокшая до костей, комариком носилась вокруг рогатой, подстегивая ее тонкой хворостинкой. Корова бугрила бока. Женщина, одетая в солдатскую фуфайку и большие кирзовые сапоги, с отчаянием говорила:
— Куда мы попали, из пушек перебьют. Зинка, горе мое… Может, вернемся? В этих катакомбах тоже немцы. Давай вернемся!
И тут Пронька не выдержал:
— Не паникуй, мамаша! Фрицу конец пришел.
Корова вдруг тряхнула головой и ходко пошла под гору. Женщина сняла с себя фуфайку, набросила ее на девчушку и, заметив сидевших на корточках Шпагина и Проньку, укрытых с головой плащ-накидкой, с упреком выкрикнула:
— Ишь спрятались от дождя! А там немцы людей убивают, — ткнула она костлявой рукой в сторону поселка. Хотела сказать еще что-то, но лишь покачала головой и, приподняв отяжелевшую, забрызганную грязью юбку, побежала в сторону катакомб, хлюпая сапожищами по раскисшему суглинку.
…К Шпагину подполз командир десантной группы, весь перевязанный — виднелись лишь одни глаза, — сиплым голосом приказал:
— После обеда, ровно в четыре часа, начинайте. Помните о красной ракете. — Передохнул и еще тише добавил: — Командиров взводов я проинструктировал, как и договорились… На кургане поднимут красный флаг, и вы рвите, комиссар, на соединение… Через поселок самый короткий путь.
Командир группы был намного моложе Шпагина. Умирая от ран, он храбрился, делая вид, что тоже не лыком шит и что еще повоюет. И все же, когда спустились в каменоломни, признался: