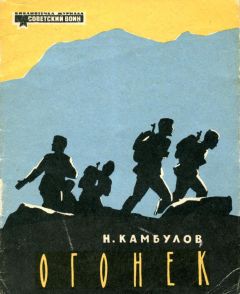Танки, покружив, уходили на западную окраину поселка. В часы абсолютного безмолвия дежурившие на поверхности десантники видели на плоских крышах глинобитных домиков голых немцев: они загорали под лучами наконец-то появившегося солнца.
Журавль изогнутой ниточкой рисовался на небосклоне. Пронька напрягал зрение до рези в глазах, но сигнала не замечал. Опять напомнил Шпагину:
— Может, сбегать? — и повел биноклем правее: в окулярах замелькали домики. Около одного из них он разглядел группу гитлеровцев и, схватив винтовку, прицелился.
— Отставить! — приказал Шпагин. — Одним выстрелом все дело погубишь. Вот поступит сигнал, тогда и пали. Ты думаешь, мне легко смотреть на них…
Пронька подозрительно посмотрел на комиссара: «И для чего тебя, старика, кинули в десант? Опять губы дрожат». И так нехорошо стало на душе у Проньки, что он готов уже был высказать свои мысли напрямую, но в это время увидел, как артиллеристы выкатили орудия на позиции, подготовленные заранее, в ночное время. В черной, шевелящейся живой ленте Пронька приметил и Мухтара в поварской закопченной куртке. А рядом с начпродом лежал у штабелька Федя Силыч. Пронька поискал глазами командира группы и, не найдя капитана, шумнул Силычу:
— Ординарец! Разжаловали тебя, что ли?
Шпагин сердито «притормозил» Проньку:
— Бабкин, перестань болтать!.. Капитан находится на правом фланге. Он ждет сигнала с кургана.
Прежний командир для многих десантников еще жил где-то, то ли на правом, то ли на левом фланге, действовал. И действовал он стараниями Шпагина.
— Есть зеленая! — вдруг закричал Пронька.
Живая волна людей взбугрилась и разом перекатилась через каменный вал. Немцев, сидящих на завалинках, как ветром сдуло. Ударили пушки, заголосили пулеметы.
Пронька бежал рядом со Шпагиным, время от времени поглядывая на Федю Силыча и дядю Мухтара. Ему не терпелось догнать их, но Шпагин придерживал.
Цепи атакующих натолкнулись на глинобитные домики и быстрыми ручейками потекли по тесным искривленным улочкам поселка. Шпагин с ходу вскочил на крышу. Выхватил бинокль, чтобы обозреть ход боя. Густел на глазах частокол разрывов, особенно в лощине, по которой должны идти на соединение: похоже было, что противник разгадал замысел десантников.
— Бабкин! На правый фланг!
Пронька первым прыгнул вниз. Пробежав метров сто, он оглянулся: Шпагин выхватил из кобуры ракетницу и выстрелил в сторону каменоломен. Пронька заскрипел зубами: ведь красная ракета — это сигнал отхода!
— Труса играете, что ли? — с гневом выкрикнул Пронька и взял автомат на изготовку. Черное пятнышко дула поднялось и застыло на уровне лица Шпагина. В глазах комиссара ни тени страха, только чуть-чуть подергивался левый ус да на шее синим наполнились вены.
Пронька перешагнул через ограду, дрогнувшим голосом спросил:
— Зачем сигнал отхода дали? Зачем?
— Опустить оружие! Ну! — как на параде, отчеканил комиссар и крепким шагом пошел в сторону домика.
Лицо Проньки покрылось испариной. Он, вдруг обессилев, опустил автомат, пьяной походкой настиг Шпагина.
— Это сигнал для противника, а не для нас. Дурья голова! Военная хитрость — тоже оружие…
На соединение прорвались повзводно… В сутолоке боя Пронька оказался рядом с дядей Мухтаром и Федей Силычем. Они прикрывали огнем маневр первого взвода. И похоже было на то, что будут отходить последними — Пронька это определил по захваченному окопу. Окоп был хорошо оборудован для ведения огня. В пятидесяти метрах возвышался каменный дом, из него изредка стреляли немцы.
Пронька приладил трофейный пулемет и только тут заметил, что в окопе, похожем на букву «П», находится комиссар. У Шпагина, припавшего грудью к брустверу, дрожала голова. Он подошел к комиссару, тихонько спросил:
— Холодно?
— А-а, Бабкин. Хорошо, что ты здесь. Мы должны продержаться в этом окопе хотя бы три часа. За это время наши соединятся. Ложись за пулемет.
Пронька потер носком истоптанного сапога под коленкой, крикнул осипшим голосом:
— Слышали?
В домике что-то грохнуло, и Пронька первым увидел в проломе стены ребристый ствол крупнокалиберного пулемета, а в глубине, в полумраке, замаячила человеческая фигура. Пронька ударил по ней короткой очередью. И тотчас же в ответ горласто рыкнуло.
— А, черт, неужели промахнулся, — выругался Пронька и начал отстегивать гранату.
— Погоди! — Пронька осекся: это голос комиссара.
— Да нет, постой, Бабкин. Мне, кажется, полегчало. — Шпагин поднялся с трудом. С минуту он силился помутневшим взглядом охватить поле боя, определить, что же там делается, не соединились ли… И ему удалось увидеть в бинокль: первые группки десантников уже карабкаются на взгорье. Еще, наверное, полчаса и пробьются. Полчаса! Их надо вырвать у врага. Он отцепил гранату.
— Живьем возьму… Надо соображать, Пронька, — подмигнул Шпагин Бабкину и пополз к домику. Но вдруг остановился, задыхающимся от высокой температуры голосом приказал: — Встретимся у той лощины. Ну, живей! Приказываю!
Пронька первым повиновался. Вслед за ним покинули окоп Силыч и Мухтар. И все же Пронька отстал от них. Круто развернулся и пополз к домику. Хотел было прямо в окно прыгнуть… Горячим и тугим шибануло в грудь — Пронька отлетел в сторону. Но тотчас же кинулся за угол, ползком приблизился к двери, из щелей которой клубился дым.
— Дядя Филипп, — позвал безотчетно, лишь бы приглушить возникшее чувство не то страха, не то одиночества. Дверь отворилась, и Пронька сначала увидел трясущуюся руку, потом самого Шпагина, тоже дрожащего.
— Дядя Филипп, ты их уничтожил?
Комиссара трясло, и он никак не мог переползти порог. Пронька помог ему спуститься во двор. Подхватив Шпагина под мышки, Бабкин с трудом дотащил его до окопа. Комиссар сильно стучал зубами. Пронька вытер ему искусанные и окровавленные губы. Потом, пошарив в своих карманах, предложил лепешку.
— Вот, дядя Филипп, ешьте…
— А-а, цела… Видишь, как бьет меня малярия, мучаюсь ужасно…
— Так вы… не от страха…
Пронька сунул лохматую голову в комиссарову грудь и заплакал:
— Ой, дядя Филипп, дядя Филипп…
Шпагин шевелил его волосы трясущейся рукой и все приговаривал:
— Эх, Пронька, Пронька, несмышленыш ты еще… Вот, видишь, как она меня трясет… Ну успокойся. Давай соображать, как нам выбраться.
— А вы поешьте, силы прибавится, а потом я вас на горбу донесу куда угодно.
Пронька для этого и вернулся: хотя комиссары и все могут, но солдаты для них — опора превеликая. Пронька лишь подымал об этом, готовый на все, чтобы помочь Шпагину.
— Мне здесь каждая складочка местности знакома, слышишь, дядя Филипп?
— Знаю, Пронька, знаю…
Шпагин разломил лепешку надвое.
— Надо бы тебя наказать, приказ мой нарушил. — Комиссар улыбнулся, и Пронька опять прильнул к Шпагину лохматой головой.
— Ага, накажите… Я ведь весь такой, товарищ комиссар, вроде бы непутевый, что ли…
Вечер подоспел кстати: еще полчасика — и ночь, южная, темная ночь опустится на землю. Да что там говорить — Пронька уже прикинул, каким путем он понесет комиссара.
Полеты закончились, и офицеры, завершив свои дела, стали расходиться по домам. К высокому, крепко сложенному майору Багрову подошел лейтенант:
— Товарищ майор, вы обещали показать мне на тренажере…
— Знаю, знаю, — скороговоркой ответил Багров, — обязательно покажу… Как только у вас будет свободное время, приходите ко мне.
В голосе майора чувствовалась какая-то особая теплота и отзывчивость. Когда мы шли с аэродрома, я напомнил об этом Багрову. На лице офицера вдруг появилось выражение грусти.
— Теплота, — тихо промолвил он. — Лейтенант — молодой летчик. Ох, как ему сейчас нужна теплота! Или, как вы сказали, отзывчивость. Требовать от подчиненных мы научились… Но дисциплина предполагает и отзывчивость командира. — Багров закурил. — Знаю я одну историю. Хотите послушать? — На его лице вновь появилось выражение грусти. Я согласился. Майор рассказывал долго. Вот что я от него услышал.
…В эскадрилье прошел слух, будто лейтенант Александр Воронов хлопочет о переводе в другую часть. Капитан Юрий Сажин, всегда летавший с ним ведущим, только пожал плечами:
— Чего это ты, Санька, надумал? — Сажин имел привычку молодых летчиков называть по имени, и небрежно так, с оттенком своего превосходства. — Ты же без меня пропадешь.
Маленький рост, покатые плечи, не в меру длинные руки — только это и замечал капитан в Александре. Хотя у Воронова, не говоря о его покладистом характере, было довольно симпатичное лицо: щеки, словно отлитые из металла, всегда отражали блеск южного загара, глаза, ясные, живые, умные…