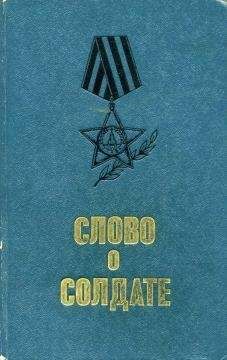Они достигли следующей группы. Она схватила за плечо маленького бойца со смешной юношеской бородкой:
— Откуда ты? Где вы были?
— Там, — сказал он, показывая рукой направо.
— Иди обратно! И они с тобой. Все идите обратно. Живо вперед!
Они не прекословили. Они как-то не в лад повернулись, и теперь она вела их, улыбаясь. Она сама не знала, что улыбается, и никто этого не видел в темноте.
Она возвращала все новые и новые группы. Она доводила их до брошенных ими окопов, спрашивала:
— Здесь сидели? Здесь! Сидеть — назад ни шагу!
Она не прибавляла: шагнешь — убью! Но она знала твердо, что эти смятенные, тяжелые, мрачные люди не смеют ей сопротивляться, ее силе, ее воле — маленькой, тщедушной школьнице, которой трудно дышать от мокрой шинели, воротник которой трет ей шею, от быстрой ходьбы, от страшного возбуждения.
Может быть, вокруг было то, что в газетных корреспонденциях называют «адом». Да, так это и было. Один раз солдат, шедший с ней рядом, сильным толчком бросил ее на землю, и над их головой грохнуло так, что, казалось, голова расколется от этого удара, но в следующее мгновение она уже была на ногах, и тот, толкнувший ее, сказал смущенно:
— Прости, крепко ударил, а то бы не уцелела. Не ушиблась?
Но она не ответила и пошла, пригнувшись, дальше. Она обходила траншеи, перевязывала раненых, следила, чтобы никто больше не смел отползать назад. Она спрашивала, сколько у них патронов, лежала в воронках, прижимаясь к земле, переползала по холодной траве, царапая руки о какие-то жестянки и камни. Ночь была бесконечной.
Снаряды не прекращали рваться. Мины лопались с квакающим хрипом, трассирующие пули разноцветными струями проносились перед ней.
Она спросила одного паренька, сильно сопевшего носом в полумраке окопа:
— Ты знаешь, где штаб батальона?
— Ни черта он не знает! — ответил за него другой голос. — А что, товарищ начальник?
Ее поразил этот ответ. Ее называют товарищем начальником. Наверное, эти люди будут днем очень смеяться, когда увидят ее при ясном солнечном свете. Но она ответила сразу:
— А вы знаете, где штаб?
— Знаю, только туда сейчас трудновато пройти будет…
— Вы пойдете туда и отнесете мою записку, слышите?
— Слышу, товарищ начальник! — сказал солдат. — Давайте, пишите.
Она вынула свой блокнот и написала кратко, что просит прислать командира, а вместо связного будет присланный с запиской.
Боец перевалил на бугор и растаял в темноте. Ночь продолжалась. Подул холодный, пронизывающий ветер. Глаза слипались. Руки и ноги стала сводить усталость. Опьяняющий восторг первых минут давно прошел, хотелось упасть и заснуть. Но она сидела и смотрела перед собой, оглушенная грохотом, и равнодушно слушала, как визжат пули, рикошетировавшие поблизости.
Потом она собрала всю волю и, зевнув в кулак, поползла проверять своп окопы. Бойцы лежали и сидели, согнувшись в три погибели, шептались и кашляли. Изредка вскрикивали раненые.
…Перед ней стоял командир, высокий, в ремнях, с наганом у пояса, с противогазом, широколицый, с прищуренными глазами, как будто сомневающимися в том, что видят.
— Кто здесь командует? — спросил он, строго глядя на маленькую фигурку, прижавшуюся в изгибе окопа. На него смотрели большие глаза, и ему показалось, что эта испуганная девочка сейчас скажет ему:
«Я хочу домой, к маме! Я боюсь!»
Но она сказала тихо и медленно:
— Здесь командую я!
И он, приложив руку к козырьку, сказал быстро и четко:
— Я прибыл принять участок по приказанию командира батальона. Это вы писали записку?
— Я, — ответила она еще тише. — Я вам сейчас все сдам. Идемте!
Мой верблюд идет первым и всем кланяется. Как шаг, так плавный поклон. С ним вместе кланяюсь и я плодороднейшим полям, бурным потокам и вот этим величавым горам. Справа от нас тянется хребет Тянь-Шань. Вершины хребта, покрытые голубыми ледниками, величаво и гордо блестят на солнце. Нет, они не угрюмые, а какие-то мудро-задумчивые: они манят, зовут к себе, и поэтому на них смотришь неотрывно, как завороженный. Подножье гор покрыто темно-зелеными травами, выше цветут дикие яблони, еще выше тянутся сочные, серебристые ели и еще выше — буро-черные, оголенные пики.
— Зверь тут много, — поравнявшись со мной на своем верблюде, говорит мне сопровождающий Саке. — Зверь много. Орхар, козел, медведь, барс. О-о-о! А птица! Фазан, куропатка, дрофа, утка все виды, гусь, лебедь, все есть. Много! А вот смотри, вор идет. У-у!
— Вор? Какой может быть в горах вор?
Саке не успел мне ответить, как тот, кого он назвал вором, крупными машками, словно через что-то перепрыгивая, пошел к ущелью, и по машкам я определил, что это волк. А из ущелья выскочило десятка полтора диких коз. Они на какой-то миг остановились, вскидывая белыми пушистыми хвостами, напоминая собой балерин, и тут же стремительно ринулись в горы. Волк тоже остановился и, как бы с обидой посмотрев в нашу сторону, вяло поплелся прочь.
— А-а, не удалось волку схватить козел! — обрадованно закричал Саке и, повернувшись ко мне, сердито добавил: — Не люблю вор. Все живут честно: орхар, козел, фазан, а волк — вор, барс — вор. Как и человек, есть честный, есть вор. Что, неверно говорю? Вора надо убивать. Нет? Скажешь, лечить? Э-ге! Волка можно лечить? А есть и человек такой, как волк.
Я пристально посмотрел на Саке, все еще не понимая, к чему он такое говорит. Ему лет под семьдесят, но на верблюде он держится, как юноша.
— К чему это ты говоришь, Саке?
— Зачем честному человеку война? Ответь мне. Зачем? Гляди, наш край богатый. Видишь, сколько яблонь-дички. Все горы — яблони. А там еще много-много малины, урюку, груши. О-о-о! А посмотри сюда, в низину. Твой глаз достанет края наших полей? В этих полях все растет. Яблоко растет, виноград растет, пшеница растет, овес растет, коров растет. Все растет. Зачем мне война? Мне надо работать, много работать, и я буду богатым, сосед мой будет богатый, все будет богатый. Да. Работай только. А-а-а, нет, вор хочет все мое добро карапчать! (воровать). Работать не хочет, карапчать хочет, значит, его надо убивать, как волк. — И Саке вдруг о чем-то быстро-быстро заговорил на своем родном языке, отплевываясь, выкрикивая одно и то же слово: «Собака! Собака!»
Я засмеялся:
— Саке, я не понимаю, о чем ты.
Саке спохватился:
— Я ругался. Крепко ругался. На фашист ругался. Фашист — волк. Да, нет?
С гор спускались гурты овец. Жирные, с тяжелыми курдюками, они спускались, пощипывая молодую травку, обгоняя друг друга, переваливаясь, как барашки на море.
— Саке! Саке! — заговорил я. — Я хочу видеть чабана. Да, да, пастуха.
— Мужчину трудно. Женщину можно.
— Разве чабан обязательно женщина?
— Нет. Обязательно мужчина. Но мужчина ушел туда, на фронт. Муж ушел, жена встала на его место.
Я повернул верблюда и направился к гуртам овец. Впереди гурта шли две женщины в полушубках. Одна из них, прикрыв лицо рукой, сквозь трещину пальцев посмотрела на меня.
— Здравствуйте!
— Здравствуйте, пожалуйста, спасибо, — обе враз ответили они и громко засмеялись.
Я, ничего не понимая, повернулся к Саке. Он тоже хохотал, выкрикивая:
— Они по-русски знают только три слова: здравствуй, пожалуйста, спасибо.
А женщины все смеялись, сверкая карими, чуть-чуть раскосыми глазами, и что-то часто-часто говорили на своем языке, все время показывая на меня.
— Что они говорят, Саке?
— Они говорят, приходи вечером, чай будет, крепкий чай, и ты будешь гостем. Они видят, ты военный, значит, брат родной, может, ты увидишь на фронте ее мужа, так скажи: жена его хорошо стережет овец от волка; пускай он, муж, крепче бьет волка-фашиста. Ого! Слыхал, что говорят наши женщины?
Я подъехал к женщинам. Мне показалось, что они примолкли потому, что застеснялись, но в то же время я увидел, что они смотрят в другую сторону, а одна из них проговорила:
— Председатель.
По склону горы скакал всадник. Он скакал, держась в седле так, как будто был вылит. У коня по ветру развевалась грива. Всадник сидел чуть-чуть боком и, казалось, совсем не управлял конем. Но вот конь на всем скаку остановился, всадник соскочил с седла, и тут мы увидели, что это женщина лет сорока пяти, смуглая, загорелая. Подойдя ко мне почти вплотную, осмотрев меня с ног до головы, она сердито заговорила:
— Шалтай-балтай нет. Наш женщина чист. Зачем пришел?
Это было так неожиданно, что я растерялся.
— Муж на фронт. Женщина чист. Зачем пришел?
— Марьям Бузакарова, — сказал мне Саке. — Ты к ней в гости ехал, а она тебе навстречу.
— Марьям! — сказал я. — Я привез тебе поклон от твоего сына Ураза.
Строгое, суровое лицо Марьям дрогнуло, золотистые чуть-чуть раскосые, такие же, как и у ее сына, глаза увлажнились, и она протянула ко мне руки: