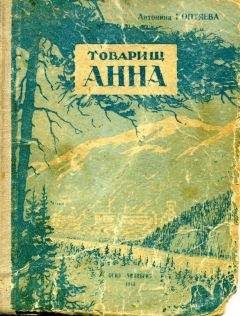Мысль об опасностях поездки, о важности своей миссии вызвала у Валентины чувство гордости. Она подумала о том, что она проявила не меньшую настойчивость, чем Андрей и Анна, для того, чтобы стать полноценным, нужным человеком.
«Их двое, они поддерживали друг друга, а меня даже ободрить некому было. Я никому не обязана своими знаниями и положением».
Сознание того, что она довольна своим положением даже удивило ее. Она огляделась: вид вымершего поселка снова ужаснул ее, но среди этого потрясающего молчания, где она могла слышать и собственное дыхание и стук собственного сердца, она с особенной силой ощутила значение своего бытия.
— Это я! Да, это я! — сказала она вслух. — Моё призвание привело меня сюда, мое человеческое я, мною созданное. Мы с Кириком двигаемся на этих бедных олешках, как казаки-первооткрыватели, как Хабаров, как Дежнев, плывший на своих кочах. Разве тайга не похожа на море? И если мы затеряемся здесь, кто сможет отыскать нас?
— Ну, чего? — спросил Кирик, нетерпеливо ожидавший её, не слезая с седла.
Он ни за, что не хотел ступить на эту страшную землю. Он слишком хорошо помнил смерть братьев и матери и многих других своих сородичей. Опухшие багровые, лица, глаза, скленные гноем, кровавые и гнойные струпья по всему телу... Страх пережитого снова встал перед Кириком.
— Чего? — кричал он гневно. — Чего смотрела?
— Ничего. Никого там нет, Кирик!
— Всех кончал — молодой и старый... — Кирик хотел было выругаться, но побоялся, чтобы не накликать плохого, торопя оленя.
— Всякий хворь-то есть. Не все хворают вместе. Эта пришёл — всех положил... Пошто так? — спросил он, когда они уехали далеко от опасного места.
— Потому, что оспа поражает всех поголовно. Никто не может устоять против этой болезни. А передаётся она на огромные расстояния, и зараза её на вещах сохраняется годами, — Валентина задумалась: картина страшного опустошения всё ещё стояла перед нею. — Это очень старая болезнь, Кирик, и пришла она к нам с юга, из жарких стран... Из Китая, из Африки...
— Я знаю, что старая. У нас её старухой зовут. Красная старуха.
— Она и чёрная бывает. Когда простая оспа, то всё тело покрывается таким горохом белым... А при чёрной оспе горох черно-красный: это кровь в гнойничках.
— Я знаю... Я видел. И краснеет и чернеет... И старая. И не подохнет, однако!
— Нет, Кирик, теперь она уже издыхает! — сказала Валентина, снова повеселев.
У груды небрежно сведенной рыбы сидела на высоком помосте женщина в жёлтом сатиновом платье-рубахе. Внизу, на песчаной косе, темнели чумы, в одном из них особенно громко в ясной свежести лесного летнего утра плакал ребёнок. Он плакал хорошо, не жалея своей маленькой грудки, изредка умолкая, чтобы передохнуть, и мать, нанизывая рыбу на бечёвку, с удовольствием прислушивалась к его сильному голосу: ребёнок не камень, чтобы лежать молча. Тоненькие тугие косицы мотались по острым скулам эвенки, по её узким под спадающей рубахой плечам. Выпрямившись во весь свой малый рост, миловидная и лёгкая, она посмотрела вверх по берегу, блестя глазами, полными света и солнца. Потом она приложила к смуглому лбу щиток ладони и радостно засмеялась. К посёлку приближалось с полдесятка чужих оленей.
______
Грязные ручонки детей, смугло лоснящиеся руки женщин... Серая кожа стариков... Преодолевая собственную тревогу и боязнь первых дней, Валентина преодолевала и косность лесных жителей.
— Мыться! Кирик, скажи, чтобы все приходили ко мне чисто вымытые. Пусть без мыла, пусть в холодной воде, но вымыться надо, и надеть что почище, и чтобы не расчёсывали руками царапины, которые я сделаю.
Валентина принимала празднично одетых людей возле чума, столом ей служила перевёрнутая нарта, накрытая свёрнутой палаткой. Валентина вытирала перед прививкой кожу пациентов спиртом, а Кирик неодобрительно морщился:
— Можно горячий вода сварить, как в бане. Зачем спирта мыться? Выпить лучше.
И мужчины; и весёлые скуластые девушки вполне разделяли мнение Кирика, принюхивались, вздыхали и удивлялись расточительности доктора. Будь Валентина, купцом, геологом, просто путешественником, — посуда со спиртом давно бы исчезла, но её звание доктора было покоряюще обаятельным в своей новизне и загадочности.
Старого охотника, известного своей храбростью от Учура до верховий далёкого Оймекона, уговаривали долго.
— Стыдно тебе, дедка Михаила! — укоряли его эвены.
— А если умру? — упрямился старик. — Я две больших оспы видел. Не трогала меня красная старуха, а когда я её на молодую поменяю, она осердиться может.
Потом он пустился на хитрости:
— Когда все будут привиты, все будут здоровы?
— Будут здоровы, — сердито подтвердил Кирик, уже охрипший от разговоров.
— Значит мне и заболеть не от кого будет.
Рыболовы даже заахали от такого мудрого рассуждения. Кирик тоже не сразу нашёлся, что возразить. Потом он полез в карман, вынул из гаманка пачку денег. Прежде чем отделить трёхрублёвку, он старательно поплевал на пальцы.
— Вот, — сказал он гордому собой старику. — Так могут поплевать на Оймеконе или в Крест-Хольджое... Это может сделать больной оспой, а потом эти деньги привезут сюда. Так ходят болезни. Почему они так ходят, я не понял, но если оспа летает по ветру, то в моем кармане ей совсем хорошо.
Михаила притих, помолчал, подумал и начал стаскивать рубаху со своего смуглого худого тела.
Вечером Валентина долго сидела над речным порогом. Вода неслась перед ней пенистым ревущим потоком, кипела буграми, налетая на камни, прыгала, как лосось, изгибая в облаках брызг чёрно-зелёную спину. А немного ниже по руслу, косо относя к отлогому берегу рваные шматки пены, она текла сплошной глянцевитой, лоснящейся массой, отдыхая после стремительного бега.
Было грустно и хорошо сидеть на стволе упавшего дерева, и смотреть на движение реки, на деревья противоположного берега, чёрные, точно обугленные на фоне багрово-красного вечернего неба. «Мрачно и величественно, как в стихах Верхарна», подумала Валентина и встала, но вдруг увидела: внизу по глубокому броду двигались к посёлку рыбаков оленные всадники. Один олень отбился в сторону и плыл, закинув за спину рога, и казалось, не от зари, а от этой рогастой головы струилась по реке кровавая полоса.
Снова вспыхнул сухой хворост на кострах. Рыбачки выбегали из чумов, на ходу оправляя платье и косы. Явился и Кирик, сел на песке у огня, расчесал пальцами жёсткие вихры, запалил трубочку, ту, что выменял на глухарей у старика Ковбы. Весёлая, беззаботная болтовня началась у костра.
Приезжие женщины с наивным любопытством осматривали Валентину. Они трогали её сапожки, щупали мягкие волосы, оттенявшие светлым блеском смуглый загар её лица и шеи. Их тёмные маленькие руки легко прикасались к её розовым ладоням, её мужскому костюму, к её гребёнкам. Она только улыбалась, позволяя вертеть себя, как им вздумается, забавляясь непосредственностью своих лесных сестёр, ещё более живых и простодушных, чем она сама. С ними были дети. Валентина присела у вьюков, сложенных на песке, развязала мягкие ремни, вынула из корытца-плетёнки крепенькую, спокойную девочку. Девочка была по уши мокрая, но толстощёкое, накусанное комарами личико её широко улыбалось беззубым ртом. Сжав кулачонки, она потянулась всем уставшим тельцем, смешно отставив задок, чумазая, пропахшая острым зверушечьим запахом и всё-таки прелестная своей детской нежной пухлостью и теплотой.
— Надо мыть, — сказала Валентина матери, сразу угадывая её по мягкому тревожному блеску глаз. — Мыть надо.
— Мыть надо! — повторила эвенка и, смеясь, оглянулась на большой костёр. — Кирик! Мыть надо?
Кирик переспросил, тоже засмеялся, начал говорить по-своему, горячо и оживлённо. По тому, как сочувственно слушали все и как захохотали потом, Валентина поняла, что он рассказывал про баню артели.
Она сама принесла тёплой воды в котелке, щурясь от дыма, начала мыть девочку, придерживая её под грудку, сильно намыливая её опущенные плечики и круглую спину. Ребёнок удивлённо молчал, только покряхтывал, но под конец операции закатился громким плачем.
— Мыло в глаза попало, — пояснила Валентина матери, и, взяв котелок, окатила девочку остатком воды и завернула её в своё полотенце. — Вот теперь мы совсем славные.
— Хороший девка-то? — спросил подошедший Кирик и пощёлкал пальцами. — Э-эй, какой хороший!
Девчонка опять улыбалась, и всем было очень весело.
— Говорят, — сказал Кирик, кивая на приезжих эвенков, — говорят, охотники наша рода кочевали туда, — он махнул рукой на водораздел Омолоя и Сантара, черневший над лесом на тусклокрасном, уже остывающем небе.