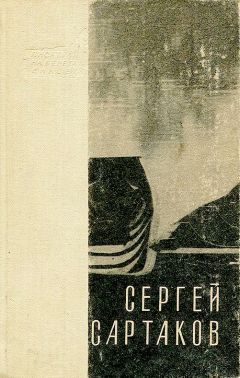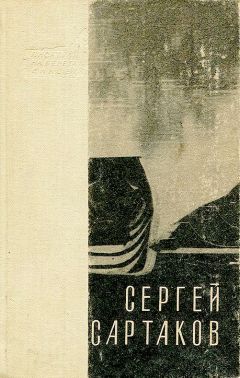Шура ладошкой своей мне рот закрыла.
— Костенька! Смешной и глупый. Да разве опять-таки на публике я это скажу? Смешной, смешной! Не такая я дура.
Вы, конечно, думаете: нужно было взорваться, наговорить Шуре грубостей, закричать на нее. Но если человек сидит, простодушно улыбается и по глазам, по губам у нее никак не поймешь, всерьез это или дразнит, — и верно, надо быть смешным и глупым, чтобы взрываться и кричать. Может быть, просто поспорить с ней? Доказать свое. Спор мне все равно не выиграть. Не умею я быстро и ловко цепляться к каждому неудачному слову противника своего. Спор только тогда интересен и красив, когда в нем острые мысли, словно шпаги в картине «Три мушкетера», все время сверкают. И вот я стою и молчу, а Шура хохочет.
— Ой, Костенька, Костенька, до чего же ты глупый. Ну, не делай такое сердитое лицо. Как же я с тебя портрет писать буду? Ты, может быть, проголодался? Хочешь чаю? Вот тебе стихи: «Грязные ногти — зараза, стриги их до отказа». Еще: «Вытирайте ноги на пороге, с вами чтобы не вошли микробы». И еще: «Граждане! Мухи переносчики всяких болезней, чем «забивать козла» — бить мух полезней». Да ну, не дуйся же, Костенька, это вовсе не Маяковский. Это парикмахер один сочинил такие стихи и вывесил как плакаты над кассой. Сняли. И плакаты и парикмахера. — Смеялась, смеялась и вдруг сделалась очень серьезная. — Как хорошо, сильно и правильно сказал. Маяковский: «Пока выкипячивают, рифмами пиликая, из любвей и соловьев какое-то варево, улица корчится безъязыкая, ей нечем кричать и разговаривать». Ах, какой эго могучий поэт! Ты знаешь, Костя, ведь поэтому к Есенину у молодежи так руки и тянутся — нам все еще в стихах «нечем любить и разговаривать». Правда?
Так вот, постепенно, она меня окончательно запутала, сбила с толку. И когда велела: «Садись, Костя, буду рисовать», — я сел. Сказала: «Убери со лба волосы», — я убрал. Потребовала: «Теперь гляди на меня», — я стал глядеть. Связно думать я уже не мог. Получалось что-то вроде одеяла из клинышков. Одна мысль выглянет уголком, к ней сейчас же прилепится другая, к другой — третья. И все разные, друг от друга далекие. Очень часто, самым ярким клинышком, повторялся Иван Андреич: «Я тебе рассказал, парень, а ты на свой аршин это смеряй». Потом: «Любовью девушки не играй. Береги любовь девичью». Тут я пробовал спрашивать себя: «Да разве я играю любовью девушки?» Если бы это была Поленька, я бы сразу же встал и раскланялся: «Извините, переезжаю на другую квартиру». Я бы от нее раньше уехал, чем Иван Андреич. А вот от Шуры я и не знал, надо ли мне «уезжать»?
Короче говоря, в ее каюте я просидел до самого начала следующей вахты, пил чай с печеньем и не ходил в столовую, хотя полезнее было поесть котлет с макаронами в томатном соусе, которые здорово готовят у нас на «Родине». А Шура все время рисовала. И теперь на полотне видны были уже оба глаза и нос, но не такой, как у меня. Я читал Маяковского, и Шура все хвалила: «Какой чудесный поэт!» А ушел я с томиком стихов Есенина. Шура просила: «Костенька, обязательно выучи: «Шаганэ ты моя, Шаганэ!»
На вахте работы было по горло. В Дудинке набилось пассажиров на теплоходе, как говорится, под завязку. Не только нижнюю, но и всю верхнюю палубу заняли. Люди главным образом из Норильска. Представляете, очень трудную зиму они там провели: и пурга, и стужа, и полярная ночь. Рабочие из горячих цехов, металлурги, шахтеры. Получили путевки в Крым, на Кавказ, а кто и просто так едет в отпуск, к родным. Тут не то что на палубу — на плот посади, каждый согласится, только бы плот поплыл вверх по реке.
Но, понятно, при таких обстоятельствах и мусорят люди здорово, и прибираться нашему брату матросу труднее. Есть и такая публика: в карты играют, играют, а потом — раз-раз, друг друга по уху! От азарта у них кровь разгорелась, а матросы — разнимай! Когда снизу плывешь, всякие картинки бывают. Словом, наработались мы с Петей, Петром Фигурновым, досыта, и я только и ждал, когда, наконец, в столовую побежать будет можно. О чем я ни думал сейчас, а котлеты с макаронами заслоняли мне все.
Вдруг подходит ко мне Шахворостов. Лицо злое, глаза красные. Водкой от него попахивает.
— Ты понимаешь, — говорит, — что я слышал? В Нижне-Имбатском остановки мы делать не будем. Капитан хочет наверстать опоздание. Вот и выкраивает время.
Я только пожал плечами.
— Ну и что же? Ты же сам всегда говоришь: тебе одинаково, что плыть, что стоять на месте. А я так рад, если приедем в Красноярск вовремя!
Шахворостов себя пальцем чиркнул по горлу.
— А мне сейчас вот как нужна в Нижне-Имбатском остановка!
— Ну так и остановимся, — говорю. — Имей в виду, там тарифная пристань, капитан не имеет права мимо проплыть.
— Да вот в том-то и штука, что капитан уже запросил Красноярск и оттуда ответили: «Если нет пассажиров — разрешаем проплыть мимо».
— Ну?
— Ну, а на теплоходе нет никого до Нижне-Имбатского. Это я в кассе узнал и у Владимира Петровича выведал. Почты, сейчас у Шурки твоей спрашивал, тоже нет. Будут берег по радио спрашивать: есть или нет пассажиры и почта. А вдруг и там нет? Перед нами прошел «Спартак». Очень просто мог он зачистить.
— Да что тебе далось это Нижне-Имбатское?
И вдруг мне припомнилось. Когда шли мы вниз, была там большая погрузка и выгрузка. Илья бегал куда-то, чуть даже на теплоход не опоздал. Он говорил: к знакомой девушке. Маша сказала: неправда. Но человек-то волнуется.
Говорю.
— Тебя там и верно ждет девушка, что ли?
Илья хмыкнул:
— Девушка! — Но тут же сощурился, по-дружески толкнул меня в грудь кулаком. — Невеста моя. Понимаешь? Мне бы хоть на пять минут приткнулась «Родина» к пристани, только на берег ступить, два слова с ней перемолвить.
Неприятно мне стало. По глазам вижу: врет Илья, на ходу все выдумывает. Ну что ж, его дело. Только из-за этого по-настоящему я и пожалеть его не могу, разделить с ним тревогу. Для порядка, из вежливости все же я мотал головой. «Да-да-да…» Но Илья не отстает. Я пошел, и он за мной. Остановились на носу, у лебедки, где прошлый раз со мной Шура сидела. Плещет вода, как дымок тонкий, туман у берегов стелется. Илья дышит мне водкой в лицо, теребит за рукав.
— Костя, я не могу рисковать.
— Чем рисковать?
— Остановится или нет «Родина». Надо, чтобы остановилась.
— Да ко мне-то ты чего прилип? Я ведь не капитан, теплоходом не командую.
— Нет, ты можешь.
— Интересно, — говорю. — Это как же? Пожалуйста, объясни, и я скомандую.
— А вот так. Ты договорись со своей Шуркой, чтобы она все-таки дала сведения капитану на выгрузку почты. Ну, письма там или посылки.
— Ого! — говорю. — Вон ты куда! Только, во-первых, Шура не «моя», а во-вторых, в такие дела я вообще не стану впутываться.
Если бы я порезче Илью оборвал, может, на этом наш разговор и закончился бы. А тут он, наверно, понял меня так, что я колеблюсь, потому и подбираю «во-первых» да «во-вторых».
— Костя, друг, — говорит, — ну, выручи еще раз! Я бы и сам договорился с Шуркой, да она за Тумарка на меня злится.
Сказал, и я вижу — быстренько спохватился он: дескать, не вовремя ляпнул. А меня это, сам не знаю отчего, очень крепко задело. Сразу же вспомнилось, как Тумарк от меня отодвинулся, когда я хотел с ним поделиться насчет Шуры. Он тогда покраснел и сказал: «Не надо, Костя, об этом». Тогда я понял так: парень он скромный, не любит пустозвонить о девушках. Но я тогда и не подумал, что это и прямо с Шурой как-то связано. Теперь от слов Ильи даже дыхание у меня перехватило.
— А при чем здесь Тумарк? — говорю.
И опять вижу — по лицу Ильи тени бегают. Я тоже чувствую: если он сейчас скажет, так что-то такое, после чего не только по делам Ильи, но и вообще не стану я с Шурой разговаривать. Если же не поверю его словам, то, наконец-таки, по давнему своему обещанию ударю его так, что трудно с палубы ему будет подняться. И первое и второе, сами понимаете, Шахворостову не на руку. Стоит он и только бормочет одно:
— Костя, сходи.
— Нет, — говорю, — начал, так рассказывай до конца.
— Пообещай, дай слово, что пойдешь и с Шуркой договоришься.
— Никуда я не пойду, а ты мне все расскажешь!
Оттеснил его к самым перилам. Двинуть кулаком — и за бортом Илья. Но этого я, конечно, не сделал бы. На крайний случай только за ворот над водой, может, его нагнул бы. А пьяному Илье, наверно, гибель своя уже примерещилась. Лицо у него побелело, губы свело…
— Ну, она с Тумарком так, как с тобой… А я открыл Тумарку…
Смерил я Шахворостова глазами сверху вниз. Для чего — не знаю. Бить его я теперь и не думал. Просто хотелось разглядеть хорошенько, что же он за штука такая: Тумарку он «открыл», а мне «закрыл» правду. Да считал, поди, еще, что товарищу помогает завести веселенький романчик. Свинья такая! А Шура… Эх, Шура!
Иду и думаю. Вот только что сам же я рассуждал об Иване Андреиче: поздно он решил переменить квартиру и этим загубил Поленьке жизнь. Шуре-то, выходит, жизнь не загубишь. А опоздал я, кажется, еще больше, чем Иван Андреич. Пойти и выплеснуть все это ей в лицо.