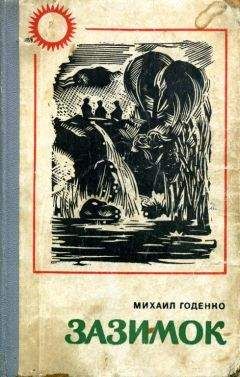— Диду, он вас обдуривает! Коняку пече батогом и хлопца пече батогом!
Старый цыган ласково показал мне ясные зубы. И — хлесть меня кнутом по шее. Сыромятный батог обвился гадюкой, обжег и так сдавил, что кажется, горловой хрящ хрустнул.
— Как тебя зовут, красавец? А? Что же ты молчишь? А батька как величают? Не помнишь? — улыбается ядовито. От той улыбки меня холодом взяло. Потом как залопочет не по-нашему, как залопочет.
Цыганенок понял команду, развернул мерина да направил его на моих дружков — в момент потопчет! Хлопцы рванулись, словно их бураном подхватило. Я кинулся в другую сторону. Сзади послышались всхлесты знакомого батога, топот и непонятное мне цыганское лопотанье.
Опомнился я в кустах дерезы. Сатиновая рубашка распорота. Шея горит огнем. А горше всего то, что в моей руке от заветной монеты остался только слабый отпечаток. Еще совсем недавно я был царем. Вся ярмарка лежала у моих ног. Только подумайте: три копейки! Да на них же можно купить полмира. Кружку бузы за полушку, на копейку кипу петушков. Ходил бы припеваючи, посасывая гребешки. И, достигнув почти вершины блаженства, еще держал бы в запасе целых полторы копейки! Опьяневший от бузы, разомлевший от петушков, подошел бы неторопко к замершей карусели. Передо мной расступились бы все. Я облюбовал бы коня, вцепился бы в гриву, пришпорил бы его бока босыми пятками. И он бы тронулся. Понеслись бы назад хаты, попятилась бы ярмарка, закружилась бы вокруг меня вся слобода. Народ ахал бы, любуясь и конем и всадником.
— Чей же это герой! Не Тимофея ли Будяка сын?
— Он самый!
Но я не на коне, а под конем. Сижу в колючей дерезе. Слышу, как из дальнего далека доносится насмешливый плач карусельной шарманки.
Первым влюбился Котька. Он скор на все. Влюбился по-правдашнему, как парубки в девчат влюбляются. Маялся. Потому что как ей скажешь про свое чувство, если она старше тебя на целых три класса, если она дочь учительницы, если у нее отец не простой человек — аптекой заведует.
Ее зовут Поля. Можно назвать еще Полиной. А то и Полюшкой. Разные люди ее по-разному и называют. Но для нашей четверки она всегда была Полиной Овсеевной. Так мы ее зовем, в мечтах конечно. Отец ее, аптекарь, — грузный дядя. Лицо налито недоброй синевой. Его зовут «Безногий». Правда, ноги у него на месте, но ходить ими не может, в коляске ездит. Колеса высокие, на резиновом ходу. Овсей толкает колеса руками и катит себе в любую сторону. Пацаны даже завидуют: «Катайся сколько влезет!»
Мать Поли, Хавронья Панасовна, — наша учительница. Добрая женщина. Но, если разозлишь, — как даст в лоб костяшками пальцев, да еще и снизу, под подбородок, подстукнет. После такой кары и зубы ноют, и в затылке покалывает.
Есть у Поли младшая сестра Саша. Они одного роста, одинаково одеты. Темные платья, белые гимназические передники. Потому и зовут их «гимназистками». Похожи во всем, словно близнецы. Только Саша смуглая, на гречанку смахивает, Поля — светловолосая. На школьном вечере все ждут, когда «гимназисток» объявят. Выходят сестры не спеша, оглаживают темные платья. Набитый до отказа зал, где происходят все сборы, замирает. Тонкий Полин голосок заходится жалобным плачем:
Чого ж вода каламутна,
Чи не хвиля сбила?
Чого ж дівка смутна тепер,
Чи не мати била?
Поля на какое-то время умолкает. Басовитые струны старого пианино гудят-надрываются, сгущая и без того горькую девичью тоску. Вдруг над басами взлетает отчаянный крик:
Де ти, милий, спаси мене
Від лютої напасті.
За нелюбом коли жити —
То краще пропасти!..
На Котьку лучше не глядеть. Белые губы раздавлены в вареничек. Глаза зажмуренные, слепые…
На большой перемене за дощатым забором нужника курили самосад. Насосались, аж в глазах зелено. Если бы знать, что Хавронья Панасовна поведет на спевку. Если бы знать заранее, что придется стоять у самого носа ее Поленьки и дышать ей в лицо. В общем, если бы знал, где упадешь, так соломки подстелил бы.
Кто повыше, тех поставили во второй ряд. А Костя угодил в самую середину переднего ряда. Поля поморщилась недовольно, спросила строго:
— Это ты, Говяз, так накурился?
— Ни, ей-бо! Хоч карманы потрусите…
Котька не ожидал, что она полезет в карманы. А она взяла да и полезла. Вытряхнув оттуда крошки самосада, завизжала:
— Геть с моих очей, поганый!
Котьку начал душить кашель. Не помня себя, выбежал из класса, пересек школьный двор, забился в угол сарая и дал волю слезам. Плакал долго, взахлеб, пока в груди все не улеглось, пока не зазвенело в ушах от странной тишины.
Ходит Котька как в воду опущенный. Глядит мимо нас. Слова вялые от взаправдашней печали. Микитка и Юшко подсмеиваются над ним.
Они, глупые, не понимают, что задето неосторожно самое первое, самое хрупкое, самое дорогое чувство. Они и не догадываются, что он сам молит бога послать необходимое несчастье, скажем пожар в школе.
…Поля теряет сознание. Котька хватает ее на руки, выпрыгивает с ней из окна пылающего здания, приносит на аптечное подворье. Не Котька-недоросток, а настоящий парубок! Лежит Поля (Полина Овсеевна!) на его руках светлая, легкая. Очнулась, обняла за шею, оглушительно шепнула на ухо благодарное слово. Из пристройки выбегают Саша и Хавронья Панасовна. Выкатывается на коляске Овсей-аптекарь. Котька передает Полю из рук в руки. Задыхающийся отец просит:
— Нагнись, любый хлопче!
Котька наклоняется. Аптекарь целует его в лоб холодными устами и говорит, всхлипывая по-стариковски:
— Она твоя, добрый молодец, она твоя!..
Не ведают этого хлопцы, потому насмехаются. Котька прощает приятелей, машет на них рукой: мол, что с них взять!
Я догадываюсь о его печали и молчу солидарно. На меня он посматривает добрыми глазами.
Нас потянуло к чудно́й кринице. Что бы в мире ни случилось, она остается прежней. Бурлит синеватой водой, переплескивает ее, горькую, через покатые края каменной ложбинки. Она кажется нам центром земли. От нее разбегаются дороги во все стороны света. И к ней же сходятся.
Поднимаемся по крутому косогору. Из высокого сухостоя шумно выпорхнула кургузая дрофа. В серых крапинках, высоконогая, словно страус, круглая от летнего нагула. Куцевато расставив крылья, подпрыгивает на жестких ногах, бежит резво.
Мы увидели дрофу, и из голов улетели все мысли, из сердец выдуло все печали, кроме одной: как бы поймать! Юхим хватает камень, Котька палку. Я прыгаю с откоса, бегу дрофе наперерез. Микита оказывается умнее всех. Остается на месте, наблюдает, как мы гоняемся за птицей. Когда дрофа наконец оторвалась от земли, проплыла над его головой, он помечтал вслух:
— Вот бы ружжо!.. А знаете, у безногого аптекаря есть ружжо!
— Не слышали…
— Да нет! Что я говорю — ружжо. Не ружжо, а это, как его, пульками тёхкает?
— Пугач?
— Какой пугач! Его еще зовут «мотя-христя».
Я вспомнил. В аптеке под стеклянной крышкой действительно лежит отливающий серебром монтекрист.
— А-а… мантихрист! — говорю.
— Он самый!
— То штука. Таким бахнешь — дрофа твоя.
— «Бахнешь»… Он грошей стоит!
— Давайте попросим взаймы. Добычу — пополам, га?
— Або украсть, — заметил Юшко. — Заговорить зубы аптекарю — «мотя-христя» у меня за пазухой!
Монтекрист растревожил. Наконец решаемся…
Аптека глядит на улицу четырьмя окнами. Чтобы попасть в нее, нужно открыть калитку, пройти по дорожке, выложенной жженым кирпичом, до крылечка. Над входом — жестяная вывеска. На ней красным по белому сказано «Аптека». Под буквами — алая рюмочка. Вокруг ее тонкой ножки обвилась алая гадюка. Она с любопытством заглядывает в рюмку, высунув жальце.
По поводу аптечной гадюки Микиткин батько, листоноша, пустил шутку:
— В хозяина пошла: любит в рюмку заглянуть.
Аптекарь сидит у стойки на белой высокой табуретке. Записывает что-то в журнал. За спиной, поблескивая темным лаком, стоит коляска. Лицо Овсея по цвету напоминает бычью селезенку. Когда он с нами заговорил, ударило запахом больничного спирта.
Мы поснимали картузики. Так научены: куда бы ни зашел — шапку долой! Котька выскакивает наперед.
— Дя, чи не дадите вон то? — показал на монтекрист.
Аптекарь с хрипом втянул воздух, обнажил черные зубы.
— Кого решил убить, мамку или батька?
— Не… может, зайца, может, еще что.
Аптекарь посмотрел на нас, остальных.
— И вам?
— Ага! — ответили дружно.
— Вот разбойники! — раскашлялся, потер шею у кадыка. — Добре. Только чур сперва покатаете меня по слободе. — Видно, захотелось ему подышать на воле. Вишь как гудит у него там внутри.