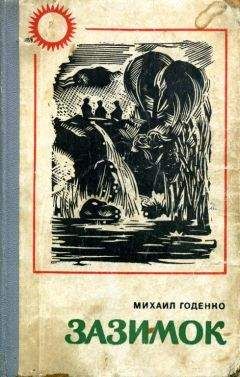Соглашаемся:
— О, сколько угодно!
Пальцы босых ног окунаются в осеннюю пыль, как в воду. Пыль даже брызжет из-под ног. Мелькают хаты, заборы, деревья, пустыри. Когда выскочили на Гуляйпольский тракт и поравнялись с пивной, аптекарь схватился пухлыми руками за высокие колеса. Остановил коляску намертво. От неожиданности Микитка с Юшком ткнулись носами в спину седока, а мы с Котькой пронеслись вперед.
Пивную у нас называют «рачной». Но не раки тому причиной. Они бывают здесь редко. Чаще всего дядьки расползаются отсюда по-рачьи. Потому так и названо.
Овсей-аптекарь долго глядел на «рачную», что-то мучительно решая. Облизывая сухие губы, потирал грудь. Затем обвел нас взглядом, остановился на Миките: самый рослый и по виду самый надежный. Поманил к себе, положил на ладонь двухкопеечную монету.
— Бубликов!
Аптекарь, как награду, вручил нам бублики — бледные, шершавые от соли колечки. Сам же остался без бубликов. Видать, не они его занимали. Горько поглядел на «рачную», густо сплюнул и скомандовал:
— Толкай!
Под вечер нам показалось, что безногий уснул. Сбавили ход. Бережно, чтобы не потревожить его покой, подогнали коляску к пристройке аптечного дома. Навстречу вышла худощавая Хавронья Панасовна, наша учительница. Чему-то радовалась, даже первой поздоровалась:
— Добрый вечер, дети!
Сдернули картузы:
— Вечер добрый!
Подошла к мужу, толкнула в плечо.
— Что ж улегся спать, не вечерявши? — Вдруг глаза расширились, лицо вытянулось. Она как всплеснет над головой руками: — Ой, рятуйте, людоньки добрые, он же готовый!..
Ноги наши одеревенели, языки усохли. А она, показалось, все нас пытает, все призывает к ответу:
— Ой, что же с ним сделали? Где же его возили?..
На наше счастье, сбежались соседи. Оттерли нас от коляски, вытолкнули за калитку. Пересекаем улицу, перелезаем через церковную ограду, хоронимся в густой сирени. Сердца тупо стучат в ребра, уши чутко ловят каждое слово, сказанное там, на аптечном подворье.
— Ой, батечку-батечку, куда ушел, на кого покинул своих сиротинок? Ой, да чи мы ж тебя не кохали, чи мы тебя не миловали? За що караешь, за що души разрываешь?!
Странно слышать такое от учителки. Казалось, она больше ничего и не может, как только задавать уроки. Казалось, она ни о чем больше и говорить не может, как только о чистописании да о поведении. И вдруг причитает, точно обыкновенная слободская тетка. Переглядываемся коротко, замираем в ожидании. А ну как заявит:
— Ловите душегубов! Это они его укатали!
Что тогда?
На второй день отец мой говорит матери:
— Овсея натомировали. Показало — сгорел.
Мать удивилась:
— Как сгорел?
— Горилка нутро спалила.
Я становлюсь невесомым. Лечу по вскопанным огородам быстрее голенастой дрофы. Тороплюсь к друзьям со спасительной вестью: «Мы не виноваты. Сам сгорел!»
На правом берегу Салкуцы, за каменным обрывом, стоит бугор. За тем бугром по вечерам прячется солнце. Весной на бугре пасутся коровы. В разгар лета, когда низкорослая трава становится бурой, туда поднимаются овцы. Коровы же сходят вниз, к самой реке. Вершина бугра плоская, просторная. Именно там мы и зажигаем праздничные костры. В году два раза: майский и октябрьский.
Мы сейчас торопимся на октябрьский. Вернее сказать, на предоктябрьский. Праздник наступит завтра. У сельсовета уже висит красный флаг. С утра на высокое цементное крыльцо поднимутся голова слободы, председатель комитета незаможных селян (короче, «кенесе»), директор школы и двое из района — мужчина в темной суконной гимнастерке и женский представитель в красной косынке. У крыльца, которое станет трибуной, развернутся строем все классы. Под грохот барабана, конечно, с горном и знаменем. За ними толпой хлынет слобода. Взрослые будут напирать на детвору, чтобы стать поближе, чтобы слышать речи.
Все это будет завтра. А сегодня вечером костер. Каждый несет сухую веточку или чурбачок, щепку или, скажем, стружку, вкусно пахнущую столярной мастерской. На самом закате вожатые построят нас большим кругом, крикнут: «Садись!» Сядем по-турецки. На середину выйдут ученики-ударники. По команде «Праздничный костер зажечь!» они чиркнут спичками, сунут их в сухую траву, подбитую под темную шапку костра. Огонь разом охватит сушняк. С треском поднимется торжественное пламя. Лицам станет тепло, спинам холодно. Директор семилетки Сидор Омельянович Сирота скажет:
— Дети, поздравляю вас с надвигающимся праздником щастливой революции!
Загудим весело, захлопаем в ладоши. Начнется смех и потасовка. Сидор Омельянович прикрикнет:
— Тихонько, ребята, вы не на уроке! Тут вся слобода слушает!
Действительно, всей слободе слышно и видно, что творится на бугре.
Когда хлопцы и девчата поочередно расскажут выученные стихи, на кругу появится Поля. Вся в белом, печальная, словно призрак. Мы притихнем на минуту. Особенно Котька. Она легонько стукнет о ладонь рогаткой камертона, поднимет ее к уху, передаст нам то, что сказала ей черная рогатка:
— Ля-а-а!..
Повторим за Полей:
— Ля-а-а!..
По ее взмаху рванем вразнобой:
Мы красная кавалерия.
И про нас
Былинники речистые
Ведут рассказ…
Но это пока не самое интересное. Вот начнутся игры, тогда будет дело! Любимая наша игра — «довга лоза». Растягиваемся редкой цепочкой по бугру, упираемся руками в колени, наклоняем головы. Последний в цепочке с разбегу перепрыгивает через каждого и становится первым. И так друг за дружкой.
Юхим решил отомстить мне за свой картуз, который я метнул вверх, а он взял да и упал в костер, подсмолился малость.
Когда я подбежал, чтобы перепрыгнуть через Юхима, он резко выпрямился. Я ткнулся носом в его лопатки — в глазах засветилось. Ладно, думаю, ты через меня тоже прыгнешь! Жду. Слышу, сопит, как бугай, летит, выставив руки вперед. Только коснулся моих плеч, я возьми да и пригнись. Потеряв опору, Юхим перелетел через меня, шлепнулся пузом. Вскакивает на ноги — и в драку. Я в долгу не остался. И пошло. Если бы не Котька, не знаю, чем бы все кончилось. А то Котька.
Три звена выпало из цепи «довгой лозы»: я, Юхим, Котька — и цепь разорвалась. Девчатам тоже надоел их «немой телефон». Подбежали к нашему гурту.
— Давайте в «третий лишний»!
О, памятная игра! Мне показалось, с нее-то я по-настоящему на свет народился.
По кругу заметалась Танька, ученица нашего класса. Она то визжит по-поросячьи, то смеется дробно, заливисто. Будто у нее вместо горла вставлена глиняная свистулька с горошиной. Не зря ее зовут Танька-дурносмех. Покажи палец — упадет со смеху, хоть водой отливай.
Танька мечется, словно полымя. Именно полымя. Кофта на ней ярко-оранжевая. Горит в сумерках. Странно смотреть: ни ног, ни юбки, ни лица. Только кофта мечется по кругу.
Танька с ходу притулилась ко мне. Микитка оказался лишним. Мяукая по-кошачьи, кинулся наутек. Простукали пятки догоняющего. Мою незащищенную спину обдало холодком. Зато груди стало тепло. Кофта горит. Обдает жаром. Танька-дурносмех стоит как вкопанная. Невыносимо хорошо. Волосы ее пахнут чем-то свежим и теплым. Может, тыквенными семечками. Она вечно грызет их, белые, крупные, с подрумяненными на сковороде боками.
Я всегда обижаю Таньку, даю ей тумаков. А сейчас что-то рука не поднимается. Обалдел весь от огня ее бешеной кофты. Да она уже и не Танька-дурносмех. Строга, величественна, неприступна!
Я еще совсем не взрослый. Не притрагивался к девушкам. Вот, может, только на игрищах. Поймает какая-нибудь дебелая девка тебя, пацана, притянет к себе. Брыкаешься, упираясь ладонями в ее подбородок. А она тянется к твоим губам — мурашки по телу. Ну их совсем, этих девчат. Нет, с Таней бы по-иному: бережней…
Смотрю на ребячий круг, на дотлевающий костер, на малые огоньки села и думаю: «Почему я родился именно здесь, а не в другом месте? Как получилось, что появился на свет там, где хотел? И мать и отец такие, каких я хочу, — других не надо. И все вокруг милое: каменный обрыв, Салкуца, слобода. Неужели все вышло случайно?..»
Салкуца стонала. У бетонного моста льдины перегородили ее. Наконец нашла выход: кинулась через огороды в нижнюю улицу. Улица превратилась в добавочное русло.
Хаты, которые стоят на полосе между Салкуцей и нижней улицей, оказались отрезанными. Но для их обитателей это дело привычное: считай, каждую весну бывают островитянами. Загодя запаслись и солью, и керосином, и спичками. Хаты надежно защищены высокими валами-загатами из глины и пепла. Особенно стоек против воды пепел. Подмокший, он слипается. Становится плотным, как цемент. Случается, уровень воды куда выше пола, а в хате сушь да благодать — валом охвачена. Бывает и по-другому: сады стоят в воде и хаты тоже. Тогда беда! Все живое ищет убежища на чердаке. А в хате плавают ведра, черевики. Печи захлебываются мутным потоком. Дядьки-соседи, высунув головы в слуховые оконца, переговариваются меж собой, шутят невесело.