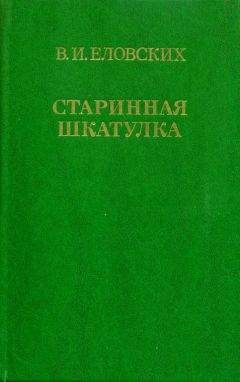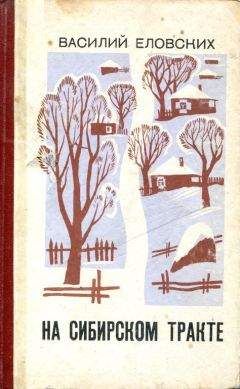Она страшно любит мечтать: завалится спать, закроет глаза и представляет себя… Кем только не представляет, чаще доброй феей, утешительницей честного, благородного, попавшего в беду мужчины (прямо как в старинных романах). Все последние вечера, перед тем как заснуть, она рисовала в своем воображении именно такого человека (рослый, кудрявый, веселый), он привязывается к ней, они страстно любят друг друга. Она настолько привыкла к этому надуманному образу, что, казалось, будто и в самом деле когда-то видела, знала кудрявого. Каждый вечер, лежа на кровати и закрыв глаза, Нюра мысленно встречалась с ним, и мечты эти, на диво яркие, похожие на воспоминания, начинали пугать ее. Пугающие мечты — что-то новое для нее.
Сегодня она то и дело вспоминала о Рябове; подойдут покупатели — отвлекут, забудется вроде бы, только чувствует какую-то смутную, неясную радость, и — опять… И хочется улыбаться, улыбаться. У него строгое, усталое лицо, кожа на щеках обветренная, от носа а губам — тяжелые морщины. Даже в веселых глазах есть что-то усталое (странное совмещение веселья с усталостью). «По всему видать, нелегко жил, — думает она. — Моложавые да изнеженные лица бывают чаще у людей пустоватых. Или, во всяком случае, у таких, кто не очень-то изнуряет себя тяжелым трудом и не шибко-то переживает». Нюре нравятся такие, как у Рябова, простые, мужественные лица, — мужчина должен выглядеть мужчиной.
Дома она торопливо прибралась, диву даваясь: откуда столько пыли берется, сделала винегрет, нажарила оладышек, сунула в вазочку свежих астр (она сама их выращивает, возле дома — огород, и там ее грядка со всякой всячиной — помидорами, огурчиками, морковью, свеклой, лучком, цветами), надела свое любимое платьице в горошинку, причесалась и воссела возле стола, накрытого новой, мягкого салатного цвета, скатертью, праздничная и взволнованная. Вспомнила, как торопилась с работы и недалеко от дома увидела двух девочек лет трех. Неотрывно глядя на нее, девочки начали мило лепетать, что — не поймешь, можно было разобрать только слова: «Собака убежала… Бо-ольшая!..» — И Нюра, посмеиваясь, с непонятным восторгом стала вдруг обнимать их: «Ах вы, мошенницы! Милые вы мои девчушечки!» И девочки вдруг испугались, заплакали. Еще раз оглядела комнату и поморщилась, как от боли: возле дверного косяка потрескалась штукатурка, — кривая темная щель этак с метр длиной. Когда успела потрескаться?
Она боялась, не будет ли он свататься с обычными для него шуточками-прибауточками, ей хотелось, чтобы все проходило на полном серьезе. А уж потом — пожалуйста… Это даже лучше, когда мужчина веселый, с шуточками. Говорят, веселые люди меньше болеют. И дольше живут.
На улице вовсю расходился дождь; он начал накрапывать еще с утра, временами утихал вроде бы, потом опять накрапывал, а теперь вот ожесточенно долбит и долбит мокрую землю, накатываясь какими-то кривыми густыми полосами, странно похожими на снег; бревенчатые избы и амбарушки на другой стороне улицы почернели, стали выглядеть более приземистыми, угрюмыми, улица обезлюдела, и Нюра, не любившая ненастья, с тревогой подумала, что Константин Федорович, пожалуй, может и не прийти. Но он пришел. Она вздрогнула от резкого стука в дверь (лучше, если бы постучал деликатно).
Рябов был в сапогах, забрызганных грязью, в старом пиджаке, который уже узковат ему, в черной смятой рубахе, и Нюре это не понравилось: мог бы и приодеться.
— А дождик-то понужает да понужает, — проговорил он, посмеиваясь.
Его веселье показалось ей несколько наигранным.
— Да уж погодка, хуже б, да некуда. Проходите, пожалуйста, Константин Федорович. Садитесь.
Чудновато бывает порой: ждешь кого-то или чего-то и не можешь дождаться, а когда дождешься, то уже вроде бы сожалеешь, что дождался, и хотелось бы, чтобы все это произошло не сегодня. Вот и сейчас, почувствовав неловкость и смешную жалкую боязливость, она пожалела, что он пришел; взял да вдруг… сразу и пришел; уж лучше бы когда-нибудь потом, может быть, завтра или послезавтра. Она понимала, что это — проявление слабости, и тут же мысленно ругала себя.
Он снял кепку, тяжело, устало сел. Большой, простой, домашний.
— А ведь хорошо сидеть так вот. Ей-бо!.. Кругом чисто, тепло. И ты как барин. Сидишь, пузо выставил. И чайком балуешься.
— Так за чем же дело стало? Сейчас будет и чаек. Долго ли скипятить. А пока попробуйте, пожалуйста, мой винегрет. И вот еще оладышек: Митрий вон нахвалиться не может. Уж больно ему мои оладышки нравятся.
Сказала и пожалела: немножко хвастливо получилось. Когда шибко стесняешься, еще не то скажешь.
— Ну, это уж потом. А сперва я хотел бы о деле…
Она села напротив него, смирная, серьезная; без конца дергала воротничок платья, будто поправляя его, и в теплых глазах ее можно было прочесть: «Я, конечно же, догадываюсь, зачем ты пришел. Говори, я жду».
— Не знаю, как ты на это посмотришь… Но, ей-богу, ты ничего не прогадаешь. Даже наоборот. Думаю, что это обоим нам пойдет на пользу. Я те предлагаю поменяться квартирами. Мне рядом с Митькой охота… Мы с ним с детства дружим. Да и завод отсюдов недалеко. Конечно, у вас тут водопровод. А у меня нетука. Но, во-первых, комната у меня вдвое больше. У тебя одно окошко, а у меня два. И больших. У тебя на север. А у меня на юг. Тоже значение имеет. У тебя на первом этаже, а у меня на втором. А это уже большая разница. Ведь у вас тут запросто могут квартирку обчистить. В тот понедельник у одного нашего заводского будильник свистнули. Прямо с окошка. Пришел домой, глянул: мать честная!.. Парового отопления и канализации у тебя тоже нету. Так что… А во-вторых… Я тебе могу доплатить.
Менять квартиру Нюра не собиралась. Она всеми силами старалась показать, что ей хорошо, весело. Он понял это по-своему и сказал:
— Ну, я вижу, ты согласная.
Рябов заулыбался, игриво прищурил глаза; ему хотелось понравиться ей, а почему хотелось, он и сам не знал.
— Так что ж… по рукам?
Нюра тоже улыбалась, но по-другому, чем он, — вяло, скованно. В глазах ее он уловил какую-то грусть, мольбу и… вину, в общем, нечто такое, что неожиданно насторожило его.
«Кажется, зря я приперся сюда».
— Ну, чего молчишь? — уже грубо сказал он.
Когда Рябов ушел, Нюра села к окошку и, глядя на дождь, вспоминала о прошлом. Так… обо всем. И обо всех. Под дождь почему-то легко думается. Эти воспоминания, сколь ни странно, внесли в ее душу тихое успокоение, — значит, все идет как и обычно, как и год назад, и десять лет назад. И пусть так идет! Пусть! Все ясно. А ясность, даже самая плохая, лучше радужной неясности. «Все как прежде, все та же гитара…» Откуда это, из какой песни? При чем тут гитара?
В дверь постучали. Это был Дмитрий.
— Слушай, Нюр! Ты не смогла бы с Вовкой понянчиться, а? Мне к свояку надо. И Лизка когда ишо с работы придет.
Вовка — полуторагодовалый глазастый толстячок. Он еще не понимает, что свое, а что чужое, и в комнату к Нюре приходит как к себе. Она часто нянчится с Вовкой. Он зовет ее «тетю» вместо «тетя». «Тетю… дай!» — «Ты куда пошел, Вовка!» — «Тетю ком» (в тетину комнату). Рано утром стучится в дверь: «Тетю!..» — и, увидев Нюру, аж подпрыгивает от радости. И Нюре тоже весело, не знаю как.
— Конечно, конечно! — бодро говорит она. — Только вот халат надену. Вовка, где ты?! Иди сюда, мошенник!
В дверях показывается улыбающаяся детская рожица:
— Тетю!!..
1980 г.
1
О Тане рассказывали на заводе… Какой-то мужчина, появившийся зимой в их сибирском городе невесть откуда, влюбился в нее и предложил ей, как в старину говорили, свою руку и сердце. Таня с опасливым удивлением смотрела на этого почти не знакомого ей долговязого с плутоватой физиономией человека, который без всякого якова взял да и заявился к ним в воскресный день, когда девушка была одна. Она жила вместе с матерью в маленькой квартирке на втором этаже бывшего купеческого особняка.
— Но я же вас совсем, совсем не знаю.
— А я не тороплюсь с загсом. Это потом…
На его пухлых губах появилась непонятная усмешка, которая неприятно удивила Таню.
— Когда потом? — машинально спросила Таня. И тут же обругала себя: к чему этот дурацкий вопрос. — Нет… все это, право, странно. — Она говорила, как всегда, мягким, приятно уважительным голосом, по которому трудно узнать, что думает девушка, какое у нее настроение.
— Ну что ж… Давайте познакомимся поближе. Завтра в филармонии трио баянистов выступает. Вы, конечно же, любите баян. Да или нет?
— Я не смогу. Я занята. Извините, пожалуйста.
Он ее напугал. Она и видела-то его раза три, не больше: ходила покупать картошку к его квартирной хозяйке. Помнится, он вяло глянул на нее, когда она вошла в дом, и тут же вытаращил глаза. Оценивающий и оголенно восторженный взгляд мужчины показался ей неприличным и неприятным. Вскоре он пришел к ним на квартиру: «Хозяйка моя захворала. Гриппует. Нет ли у вас какого лекарства?» До чего же навязчив и нахален: караулит ее у подъезда дома, названивает по телефону. Липнет как репей. Вновь заявился к ним на квартиру: «Если не пойдешь за меня замуж, я тебя убью». Глаза его при этом были оловянно тяжелыми, неживыми. Тут уж Таня не на шутку перепугалась. Аж ноги задрожали. Рассказала матери, та — соседям. И один из соседей, военкоматовский майор, мужик, по всему видать, лихой и решительный, пошел к нахальному жениху: «Она — моя невеста. И ты не трогай ее». А когда пришлый заартачился, майор будто бы незаметно вытянул пистолет, не из кобуры, а из кармана почему-то, и бах-бах: пули пролетели над правым и левым ухом долговязого. А майор продолжал нарочито вежливо: «Ну, пожалуйста. Очень, очень прошу».