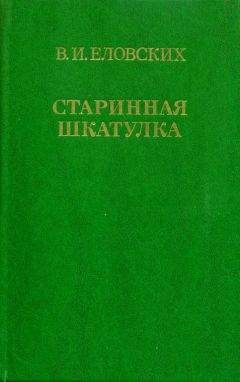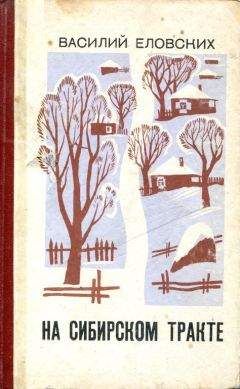Возле мостика через речку дорога вдруг резко врезалась в землю, образовав берега, облепленные кустарником. Машина попятилась, бойко вильнула на тракт и завалилась задними колесами в яму, покрытую густой, как тесто, грязью. И затихла.
Костя плюнул с досады. Он понял: сели прочно, надолго.
С прежним усердием хлестал дождь. Лужи и грязь, грязь. Сыто булькала опухшая от половодья речушка.
— А мы в речку не сползем? — спросила Таня, зябко поеживаясь в своем модном, узком пальто: — Как же это так получилось?..
— Не сползем, — фальшиво-бодро проговорил Костя. — Замерзли? Возьмите мой полушубок.
— Да что вы, что вы! Не надо.
— Берите, говорю. — Он с армейской быстротой стянул с себя полушубок и накинул ей на плечи. Ему было приятно дотрагиваться до ее рук и плеч.
— А вы?..
— Мне и в фуфайке ничего, — соврал он. — А сейчас еще и поробить придется. Пойду, веток нарублю. Под колеса набросаю. Иначе придется нам загорать тут до самого лета. Ох и влопались мы!
— Посоветуйтесь с Федором Васильевичем. Он ведь хорошо разбирается в шоферских делах.
Она говорила, как всегда, вежливо, располагающе. Но ее слова о инженере Новикове не понравились Косте. Значит, считает, что он шофер так себе, недоучка.
— А что мне Новиков?..
— Зря вы… он очень способный человек.
Недовольно засопев, Костя начал вылезать из машины.
Они часа два провозились у моста. Уморились. В сапогах у Кости приглушенно хлюпало. Сапожонки у него старые-престарые. Один уже каши просит, а во втором вылезают гвозди, пальцы ранят. Вчера подладил-подремонтировал, ничего было, а сейчас опять… Обогревая дыханием заледенелые руки, он думал о Тане: «Беззащитная какая-то». Но ее беззащитность была ему приятна.
Садясь в машину, он увидел у Тани на правой щеке грязь — длинную кривую полоску, что удивило его. Оказывается, к ней, как и ко всем, так же вот просто пристает грязь. Он понимал: иначе и быть не может. И в то же время это удивляло и было почему-то неприятно.
В Таниных глазах тихая, непонятная грусть. Костя пытался заговаривать с девушкой. Она отвечала мягко, вежливо и вместе с тем отчужденно.
Когда они наконец-то добрались до села Покровское и разыскали Новикова (он был в райисполкоме), Таня вдруг оживилась и, рассказывая инженеру о дорожных злоключениях, как бы между прочим, случайно дотрагивалась до его руки.
Новиков курил толстую папиросу. И делал это он так, будто курение — неприятная для него работа: хмурился, кривился. Искоса и затаенно-недоброжелательно посматривая на него, Костя думал: «А здоровый мужик. Энергичный. Таких бабы любят».
2
И еще была одна поездка с Таней. Девушка позвонила ему:
— Константин Иванович, мне надо привезти телевизор из универмага. Вам говорили обо мне?
— Да, да! — торопливо и с радостной напряженностью отозвался он. — Когда вы хотели бы?
Был стылый, нежно-прозрачный вечер, которые так часты осенью в сибирских городах. Машина, казалось, летела над гладким, заледенелым асфальтом. Девушка, кутаясь в пальто, улыбчиво поглядывала на дорогу, ее глаза в темной, машине, на сумеречной улице были странно светлы.
На днях Костя узнал, что Таня «живет с инженером Новиковым». Об этом ему сообщила шепотком счетовод Ниночка, дочка знакомого шофера. И Ниночкины слова как ножом резанули Костю. Ревность, горечь и обида на Татьяну враз обрушились на него. Никогда в жизни не чувствовал он такой обиды. Костя, как бы между прочим, начал выспрашивать у Ниночки, от кого она узнала про это и когда.
Сейчас он незаметно приглядывался к Тане. Она не может усидеть на месте. На лице боевитая усталость и радость. Почему раньше усталость и радость казались ему несовместимыми? Так и рвется из нее эта радость. Глаза изменились: стали какими-то глубокими, говорящими. Глаза в себе. А ведь совсем недавно были чистыми, ясными, как у малышки. Ее теперешние глаза не нравятся Косте. Больше, всего он чувствует недоверие и ревность именно к ним.
Таня везет телевизор. Черно-белый. С большим экраном. Но Костя чувствует: не это радует ее.
Он намеренно поехал по главной улице, хотя дорога здесь куда длиннее. Тут он схитрил — хотел показать Тане свою вечернюю школу.
— Вот здесь я учусь, — сказал он, сбавив скорость.
— Учитесь?
В ее голосе равнодушие. Точнее, безразличная вежливость. А он-то думал, что это приятно удивит ее.
— Хорошо, — добавила она тем же голосом.
— В девятом классе. Закончу десятилетку и дальше пойду.
В вечернюю школу он поступил прошлой осенью. Из-за Тани. Она такая культурная. А он такой лопух. Лопух лопухом. С грехом пополам семь классов закончил. Дрянно шла у него в детстве учеба, что уж говорить. Баклуши бил. Лентяйничал. И с армией неладно получилось. Повезли на фронт. Где-то в пути налетели немецкие бомбардировщики и разбили их эшелон в пух и прах. Костя долго лежал в госпитале. И теперь вот как считать: фронтовик он или не фронтовик? Боялся, что будет плохо учиться в вечерней школе. Казался сам себе тупым, неуклюжим и некрасивым. Башка большая, как ведерный котел. Руки длинные, как у обезьяны. Толстые губы и нос картошкой. Он страдал от того, что некрасив. Медведь в посудной лавке. Всегда таким казался. А теперь особенно. Но учиться стал неожиданно для себя хорошо. Наверное, потому, что старался. Это воодушевило его. Значит, он не так уж и глуп. Чудно, но факт, постоянные думы о девушке все же мешали Косте: смотрит в учебник, а видит Таню, ее едва приметную беззаботную полуулыбку.
Говорят, будто женщинам нравится в мужчинах не столько внешность, сколько ум и высокие душевные качества. Об этом Костя узнал с неделю назад, случайно услышав разговор молоденьких конторских женщин. Удивился. Рассказал матери. Та с недоумением уставилась на него: «Дак как ишо. С морды воду не пить».
Он чувствовал обиду на Таню. И неприязнь к Новикову. К Новикову, пожалуй, даже больше, чем неприязнь. Он его терпеть не мог. И видел в нем теперь даже то, что раньше вроде бы и не видел: легкое позерство, насмешку в глазах.
— Мне сказали, что на той неделе у вас будет день рождения. Я могу достать красивые цветы.
Его голос деревянно напряжен. Костя старается сбить напряжение и, подобно Новикову, говорить душевно, игриво, но от этого еще более напрягается. Он хочет понять… Нет, начнем, пожалуй, с другого. В это лето Костя почти каждую неделю приносил в контору по букету цветов. Чаще лесных. От которых так и пахнет тайгой. И просил уборщицу мордастую тетю Маню класть букеты на Танин бухгалтерский стол. «Обо мне не говори. А если спросит, кто передал, скажи, что какой-то незнакомый мужик. Кудрявый. В очках». Костя втайне надеялся, что добрая болтушка тетя Маня когда-нибудь да проговорится. Будет скромно и романтично. На этой неделе он цветы не приносил.
— Не надо, — ответила Таня.
Голос вежливый и отчужденный. Чувствовалось, что она мысленно где-то далеко-далеко отсюда, в ином, беспокойном и в то же время приятном для нее мире.
Костя путано говорил ей о погоде, о ночных заморозках и еще о чем-то, теша себя мыслью, что, может, врут люди и ничего серьезного у Тани с Новиковым не было.
— Вы чем-то обижены на меня, Константин Иванович?
— Нет, нет, что вы!
Костя занес к ним на квартиру тяжелый телевизор. Их встретила сухонькая старушка с ласковыми глазами и дряблой шеей, чем-то похожая на Таню. Засуетилась:
— Проходите, пожалуйста. Садитесь, пожалуйста. Не хотите ли чашечку кофе?
Нигде он не видывал столько старинных вещей. Потускневшие от времени, мрачного вида резные шкафы, горка, толстый комод, настенные часы с боем.
— Интересная у вас шкатулка, — сказал Костя.
— А!.. Это еще от мамы, — ответила старушка. — Единственная вещица, которая досталась от мамы. — Она подала Косте лакированную (лак потрескался от старости) шкатулку с замочком; на крышке нарисована русская тройка в позолоченной сбруе, кучер в ярко-синем кафтане и две красавицы в красных шубках.
На диване лежала большая черно-белая кошка. От нее так и отдавало уютом и домашностью.
— Танечка, звонил Федор Васильевич, — сказала старушка. — Он заедет вечером.
— Потом, потом!.. — необычно для нее торопливо проговорила Таня.
«Да, она живет с ним». Опять стало тяжело, погано на душе. И Костя снова казался сам себе жалким и неловким, неумным и некрасивым. Отпил два глотка из маленькой с позолоченным ободком чашечки и встал:
— Спасибо. Мне пора.
Какое безразличие ко всему. Чувство опустошенности. Ехал медленно. Руки как автоматы. И в голове — слова, слова, слова. Все к ней: «Я встаю и думаю о тебе. Засыпаю и думаю о тебе. Я рвусь тебя увидеть. Бегу к бухгалтерии и бесстыдно подглядываю. Как мальчишка. Я не трус. Но почему-то боюсь сказать тебе о своей любви. Даже намекнуть об этом боюсь. Только мечтаю. Попусту. И в мечтах моих нет чувственности. Я слышал, что женщины не уважают тех, кто несмел. И это по-моему очень несправедливо. Ты, конечно же, понимаешь, что я тебя люблю. Моя любовь пугает тебя, я чувствую. Говорят, что любовь, даже неудачная, — это счастье. У меня нет счастья. Скорее, мученье. Я не преувеличиваю. Я вижу и понимаю, что ты тянешься к тому человеку. К задаваке. К женатику. Что ему ты? Так, временная утеха. Он же не любит тебя. И, думаю, никогда никого не любил. Конечно, морда у него красивая для баб. Строгая. Строгость по отношению к другим. А по отношению к себе строгостей нет.