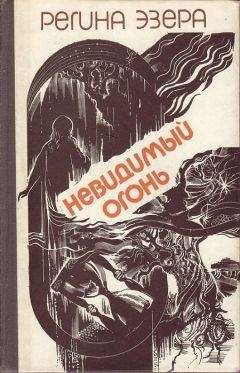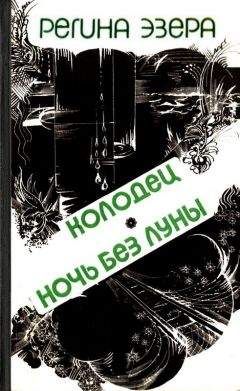Сойдя вниз, он останавливается и, прищурив веки, обводит взглядом это сияние, искрящееся всеми цветами радуги, смотрит вокруг удивленный, пораженный, ослепленный, впивая взглядом акварельную ясность зимнего утра, изменившую до неузнаваемости привычный, наскучивший пейзаж. Наконец Войцеховский замечает и меня, коротким, пластичным жестом вскидывает пальцы к виску, к меховой шапке, и я, кое-как собрав свои скудные познания в польском, полушутя-полусерьезно отзываюсь:
— Dzien dobry, panie Woicechowsky!
— Куда-нибудь едем? — спрашивает он, уже открывая дверцу газика и предлагая свои услуги, но мне никуда ехать не надо, по счастью — никуда, да и что за охота ехать куда бы то ни было в такой день.
Сначала он ставит в машину чемоданчик, затем трость и тогда уж садится сам, делая все не спеша, с чуть замедленной, словно подчеркнутой, грацией, и хотя это слово «грация» может показаться неточным и неуместным, ведь речь идет о мужчине, причем пожилом и в придачу немножко хромом, может представиться еретическим или язвительным, мало того, может выглядеть насмешкой над здравым смыслом и понятием красоты, отдавать просто ерничеством, пустозвонством — да, хоть все это может так выглядеть и представляться, казаться и восприниматься, я не нахожу другого, более верного обозначения для легкости и свободы движений Феликса Войцеховского, что сродни пластичности как балетного танцовщика, так и дикого животного, и за внешней легкостью прячет целенаправленность, выносливость и физическую силу.
Сев в машину, Войцеховский берется за ручку дверцы. Секунда — и та захлопывается, еще секунда — колеса приходят в движение, взметая облако рыхлого снега, и… Но в этот момент, в этот самый последний момент из калитки Каспарсонов стремглав выбегает Лелде и, махая рукой, бежит следом. Портфель застегнут всего на один замок, пальто — всего на одну пуговицу, а шарф только захлестнут, он реет и пляшет, на бегу и от тряски живого движенья разматывается все больше и больше — ярко-красный на снежной белизне, как цветущий мак, бьющийся в ритме бега, как струя крови. Автобус, конечно, ушел, на первый урок она, само собой, опоздала, и счастье еще, что на свете есть Войцеховский, такой старичок Феликс Войцеховский со своим служебным драндулетом, на котором, может, и удастся догнать автобус. Ой, да не прогулять бы хоть второй урок, физику — ведь физику ведет классный руководитель!
Лелде, спотыкаясь, вваливается в газик, часто дыша, падает на сиденье рядом с Войцеховским, запыхавшаяся, не в силах ни поздороваться, ни вообще вымолвить слово, она только счастливо улыбается белозубым ртом сквозь клубы пара, которые прерывисто возникают и рассеиваются, вырываются изо рта, и жемчужно-розовые, тают в студеном воздухе.
И вновь рука тянется и захлопывает дверцу, и газик снова трогает с места, и опять взметает белый вихрь снега. И мне видно зажатый в дверце кончик красного шарфа, он вздрагивает в такт движению как высунутый язычок. Подпрыгивая на расчищенных ледяных ухабах, газик быстро набирает скорость и уходит все дальше, и по мере его удаления кончик шарфа превращается в живое, дрожащее маленькое пламя и на повороте, словно его вдруг задули, мгновенно гаснет.
ТЮРЬМА, ИЛИ РАССКАЗ О ЛЕЛДЕ,
И НЕ ТОЛЬКО О НЕЙ,
НО ТАКЖЕ ОБ АВРОРЕ И АСКОЛЬДЕ
— С-смотри… П-посмотри! — восклицает он тихим, приглушенным голосом, как всегда в минуты сильного волнения чуть заикаясь, и весь он — сплошное удивление, невероятное изумление, оно струится и льется, лучится и рвется из совершенно круглых зрачков его расширенных глаз. — Видишь? В-вон!
Но Лелде уже и сама видит.
В темных недрах воды мелькает и движется что-то блестящее, глянцевое, точно белыми огнями горящее, то и дело мигающее, искры мечущее, похожее на яркую звезду и серебряно-ершистую рыбу одновременно; скользя мимо них, оно играет огнем и пламенем и, сверкая, мерцая, уходит под кромку льда, скрываясь из виду и больше не показываясь ни разу, ни на секунду, хотя они во все глаза глядят ему вслед, туда, где только что все это было. Но там ничего больше нет — сгинуло, пропало.
— Ты в-видела? — опять шепчет Айгар, уже слабо веря, что все это ему не почудилось, что это не обман зрения, не фокус, не ловкий, эффектный трюк из «Занимательной химии».
— Что? — переспрашивает Лелде машинально, не думая о том, что произносят ее губы. — Что? — словно во сне повторяет она вновь и наконец приходит в себя: — Это была оляпка,
— Оляпка? Ты скажешь!
— Это оляпка.
— Откуда ты взяла?
— Я знаю.
Она не объясняет, где она это вычитала или от кого слышала, она говорит просто и уверенно «я знаю», говорит так, будто знала всегда, с незапамятных времен, и даже раньше, будто родилась с этим знанием. Это так странно, что Айгар смеется, и Лелде поднимает на него глаза. Уши его заячьей шапки, наверху не связанные, распались и свисают вниз на разной высоте. На носу горят янтарем первые ранние веснушки, на белой коже они кажутся выпуклыми, и глаза его, обычно темно-серые, глядят сапфирами, кончик носа замерз, посинел и блестит, а из воротника пальто торчит длинная, по-мальчишески тонкая шея, какая-то беспомощно, трогательно тонкая и до того худая, что внушает Лелде почему-то жалость. Почему? И все же, глядя на его шею, эту комично тонкую шею, Лелде не смеется — ее охватывает теплое и вместе с тем щемящее чувство. Грусть заволакивает ее лицо дымкой, стирая с него детские черты и как бы намечая сеть будущих складок и морщин, что делает его чужим — непривычно серьезным и удивительно взрослым. Ее рот складывается в мягкую болезненную улыбку, предназначенную Айгару и не предназначенную никому, и Айгар, который никогда не отличался интуицией — чем-чем, но только не чутьем, — вдруг каким-то шестым или седьмым чувством угадывает, почему Лелде сошла с автобуса на одну остановку раньше и теперь стоит на мосту и никуда не идет, стоит на мосту через Выдрицу на пятнадцатиградусном морозе и не двигается с места и даже ничего такого не говорит. Ей не хочется идти домой!
Вот они оба и стоят. Лелде смотрит на свои часики и вздыхает. Айгар вслед за ней смотрит на свои и тоже вздыхает; его тяготит затянувшееся молчание, когда не знаешь, что сказать и как себя вести. Можно подумать, что они ждут чего-то или кого-то, кто не идет, не является, кого они никак не могут дождаться. Но Айгар по натуре человек действия, поступка и просто не в силах стоять так, без дела. И, зажав портфель между колен, он нашаривает в кармане спички, пачку сигарет и вытряхивает себе одну штуку.
— И мне дай, — говорит Лелде.
— На!
Он чиркает спичкой и подносит огонь к лицу Лелде. Та на него не смотрит и, опустив ресницы, все свое внимание сосредоточила на оранжевом пламени, словно завороженная его легким, беспечным трепетаньем.
— Ты берешь в рот не тем концом! — замечает он. — Наоборот надо, фильтром.
— Да? — удивляется Лелде, и, пока она поворачивает сигарету и разглядывает, с какого конца фильтр, а с какого табак, спичка гаснет. Но он зажигает новую, чиркая по коробку несколько раз, так как пальцы успели замерзнуть и перестали слушаться.
— Потяни, тогда загорится. Ты что, никогда не курила?
— Я? — Ее веки по-прежнему опущены и слегка дрожат. — Почему ты так думаешь?
Закурить наконец удается, И, зажав сигарету в тонких негнущихся пальцах, Лелде затягивается и пускает дым смешно и неловко, и выбившиеся волосы то и дело касаются ее щеки легкими бурыми стеблями.
Хорошо бы посидеть, но тут негде приткнуться, все замело снегом, и они курят, облокотившись на деревянные перила моста, а внизу трется об лед и журчит речка. Краски ясного февральского дня акварельно чистые, прозрачные, воздух стынет в безветрии, мороз крепчает, и ночью, надо полагать, еще усилится.
— Лелде!
— Ну?
— Хочешь, покажу тебе циркуляцию?
— Что-что?
— Циркуляцию дыма. Смотри! Фокус-покус. Раз, два, три — опа-а!
Айгар делает сильную затяжку и раскрытым ртом пускает дым кверху, но тот почему-то не тает, не рассеивается, а послушно течет ему в ноздри.
— Ну, скажешь, я не виртозавр? — спрашивает он, видно, в ожидании похвалы, чего же еще, ведь трюк и правда весьма эффектный.
Но Лелде ничего не говорит.
По пути на ночлег в направлении к мызному парку над их головами пролетает нестройная стайка галок. Большие деревья в той стороне уже одеваются предвечерней серо-фиолетовой дымкой и та затягивает легкой мутью жемчужно-розовый небосклон.
— Послушай, — наконец заговаривает она, хотя и не глядя на Айгара, а провожая глазами птиц,
— Ну?
— Чего бы ты хотел больше всего? Если бы мог выбирать…
— Я? — откликается Айгар, тоже не оборачиваясь, к Лелде; запрокинув голову так, что чуть не слетает шапка, он тоже следит взглядом за галками. — Ясное дело чего — я хотел бы ружье!