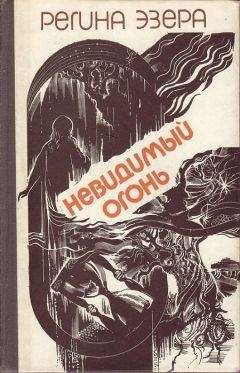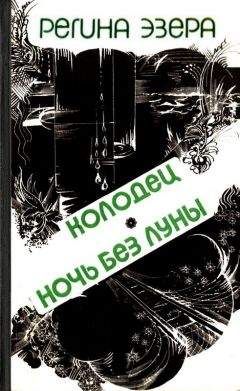— Лелде!
— Ну?
— Хочешь, покажу тебе циркуляцию?
— Что-что?
— Циркуляцию дыма. Смотри! Фокус-покус. Раз, два, три — опа-а!
Айгар делает сильную затяжку и раскрытым ртом пускает дым кверху, но тот почему-то не тает, не рассеивается, а послушно течет ему в ноздри.
— Ну, скажешь, я не виртозавр? — спрашивает он, видно, в ожидании похвалы, чего же еще, ведь трюк и правда весьма эффектный.
Но Лелде ничего не говорит.
По пути на ночлег в направлении к мызному парку над их головами пролетает нестройная стайка галок. Большие деревья в той стороне уже одеваются предвечерней серо-фиолетовой дымкой и та затягивает легкой мутью жемчужно-розовый небосклон.
— Послушай, — наконец заговаривает она, хотя и не глядя на Айгара, а провожая глазами птиц,
— Ну?
— Чего бы ты хотел больше всего? Если бы мог выбирать…
— Я? — откликается Айгар, тоже не оборачиваясь, к Лелде; запрокинув голову так, что чуть не слетает шапка, он тоже следит взглядом за галками. — Ясное дело чего — я хотел бы ружье!
— Ружье? — Она сводит темные брови и, помолчав, пока не удалились птицы, продолжает: — Ну а серьезно?
— Я же сказал — чтобы у меня было ружье! Двустволка. А еще лучше — автомат, он сам подает патроны из магазина в ствол.
Теперь Лелде переводит взгляд на Айгара.
— Неужели правда у тебя нет никакого желания? Совсем никакого? — Она искренне удивляется, хотя он выразил свое желание достаточно ясно и понятно.
— А еще мне хотелось бы мотоцикл, — добавляет он. — Маленький «козлик», как у Ингуса, а лучше всего, конечно, «Паннонию», и не какую-нибудь — с коляской.
Лелде неловко стряхивает с сигареты пепел.
— Боже мой, да зачем тебе коляска? — недоумевает она.
— Зачем? — переспрашивает Айгар и сплевывает в снег. Вот так вопрос! Да мотоцикл с коляской это же совсем другое дело, чем без коляски, мотоцикл с коляской… это почти «Запорожец»! — А зачем другим? — отвечает он вопросом на вопрос и опять сплевывает.
— А зачем другим? — эхом отзывается она в тон Айгару и смеется.
И его это вдруг задевает, ведь мотоцикл — свой собственный моцик, да еще с коляской — его мечта, а мечта дело святое, ее нельзя касаться, разглядывать свысока и осмеивать, даже если это делает Лелде, и может быть, именно ей меньше всего следует это делать: ведь у Каспарсонов есть машина, хоть и только «Запорожец», но положа руку на сердце он все же мощнее самого распрекрасного моцика, мощнее «Явы», и той же «Паннонии», и даже большого «Ижа». И ему вдруг приходит в голову: а чего, интересно, желает человек, если у него есть машина? Наверно, вторую? «Москвича», если у него есть «Запорожец», или «Волгу», если у него «Жигули»? А если есть и «Волга»? Чего желает человек, у которого есть «Волга»?
Лелде перевешивается за перила и кидает вниз сигарету. С шипением падает та в полынью, скользит поверху к кромке льда и, подхваченная течением, пропадает из виду.
— А чего хотела бы ты? — спрашивает он не без вызова, так как в душе все еще зол на Лелде за ее смех. Подумаешь, тоже мне… А все же обидно, черт побери!
Лелде оборачивается и, думая о чем-то своем, Ангару неизвестном, прямо светлеет лицом, не улыбается или смеется, а именно светлеет, так что желание ее должно быть особенное, и Айгар ее одобряет:
— Ну, валяй!
Но Лелде отвечает уклончиво:
— Ты будешь смеяться.
Так она говорит и не прибавляет ни слова, только в задумчивых глазах играют светлые огоньки.
— Какое-нибудь обалденное платье?.. Ну, может быть, бусы? — наугад перебирает Айгар, стараясь хоть примерно себе представить, чего может пожелать девушка, да еще такая, как Лелде, у которой и так вроде все есть.
— Бусы! — презрительно восклицает она. — Господи, какой ты еще ребенок.
Ну, знаете! Нету, ей-богу же нету таких слов, которые больнее задели бы его самолюбие, и, пряча обиду, он не находит ничего умнее, как вновь заняться «циркуляцией», пока не спохватывается — вот болван! — и, устыдившись, морщит нос и щелчком отправляет свой окурок следом за сигаретой Лелде. Описав в воздухе дугу и в последний раз вспыхнув, окурок падает в снег.
— Тогда не знаю, — резко бросает он, в глубине души жалея, что вообще ввязался в этот разговор. Пусть не говорит — небось спит и видит импортные тряпки, нейлоны да колготки, что же еще, а вид делает такой, будто у нее на уме что высокое!
— Это вовсе не вещь, — чуть не с обидой порывисто возражает Лелде, словно угадывая его мысли. — И вообще… ты этого не поймешь.
— Ну, нет так нет…
И оба опять молчат. Из парка долетают сонные, сиплые голоса галок. Не пора ли двигать? Тоже удовольствие тут балдеть! Постояли, покурили — и хватит.
— Как по-твоему, не пора нам идти? — под конец не выдерживает он, ведь и правда замерз как собака, да и делать здесь ей-ей нечего, и вдобавок зверски хочется есть, а от ближних домов плывут аппетитные запахи, тянет жареным — мясом с луком, а может и яичницей, он любит глазунью с салом, прослоено оно мясом или нет, все равно, ему так и этак нравится, была бы только сильно зажарена, чтоб по краям хрустела коричневая корочка. И, вообразив себе это, он нетерпеливо переминается с ноги на ногу и совсем уже больше не склонен здесь киснуть, даже с Лелде.
— Можно, — отвечает она покорно и грустно, словно мирясь с неизбежным, и он, опомнившись, опять думает о том, что ей не хочется идти домой. И ему вдруг становится очень жаль ее: сколько раз, бывало, и он в такую влипнет историю, что домой возвращаться — нож острый. А возвращаться надо. Куда же податься, куда пойдешь? Хотя в такие минуты хочется быть далеко-далеко, за тридевять земель, сесть на собственный мотоцикл и… айда куда глаза глядят.
— Может быть, тебе хочется… куда-нибудь того? — примирительно говорит Айгар, очень ясно представляя себе самочувствие человека, которого отказываются нести домой ноги.
— Как это — «того»? — переспрашивает она, думая о своем.
— Ну так. Рвануть отсюда куда-нибудь, — в неопределенном направлении машет рукой он.
— Уехать?
— Ага.
Лелде молчит, потом кивает:
— Иной раз да.
Так она говорит и, подумав, добавляет:
— Но это… не то. Нет, ты не поймешь. Не сердись, Айгар, но ты не поймешь…
Она и сама-то не знает, как это назвать. Оно как забытое слово, которое она силится вызвать в памяти и не может, оно так и вертелось на кончике языка в тот момент, когда мимо летели птицы, а потом истлело, растаяло, оставив лишь острую тоску по чему-то очень доброму и прекрасному и очень зыбкому.
Они идут мимо заснеженных домов и занесенных садов, мимо пухлых сугробов и белых мохнатых деревьев, среди всего привычного, но преобразованного снегопадом так дивно, что они бредут и шагают будто вовсе не по Мургале. У дома Войцеховского, поджидая хозяина, сидит Нерон с заиндевелыми усами.
— Нерон! — окликает его Айгар через забор, но пес на него никакого внимания, и хвостом не вильнет, и ухом не поведет, не взглянет, как будто Айгар ноль без палочки, пустое место. Слепив снежок, Айгар швыряет его через забор. Но снег, как всегда в сильный мороз, сухой и рыхлый, рассыпчатый, и снежок распадается, разлетается еще в воздухе, на лету.
— Зачем тебе это? — хмуря брови, говорит Лелде, хотя Айгар в псину не попал и попасть вовсе не хотел — так только, подразнить, чтоб из себя не воображала. Ну ясно, он в очередной раз сел в лужу и, скрывая неловкость, морщит нос, всей душой желая, чтобы вдруг начался пожар, или война, или откуда-то взялись шпионы, или стряслось еще что-нибудь ужасное, и он мог бы проявить храбрость, отвагу, так чтобы все только рты разинули.
Но ничего такого в Мургале случиться не может и не случается. В Мургале пахнет жареным мясом, яичницей, из труб, уходя в недвижный воздух, столбом вьется дым, в Мургале, кидаясь снегом, дерутся первоклашки и, когда Лелде с Айгаром проходят мимо, бросают и в них.
Кто-то взвизгивает:
— Жених и неве-еста!
Другие азартно подхватывают нестройным хором:
— Же-них и не-ве-еста… тили-тили тесто…
Вот черти!
Ангара просто в жар кидает — он грозно оборачивается. Гомон тут же обрывается, выдыхается и исходит коротким задушенным прысканьем, бульканьем, хрипом — отзвуком сдавленного смеха.
— Ну п-подождите! — кричит он, бледнея от злости, и у него так и чешутся руки, буквально, в прямом смысле слова.
А Лелде идет себе дальше, будто ничего не слышит, будто происшествие не имеет к ней ни малейшего отношения, идет, ни на миг не останавливаясь и даже не замедляя шага, и Айгар, бросив малышню, догоняет Лелде и шагает рядом. Крики, смешки за спиной постепенно опять оживают, набирают силу, и Айгара с Лелде скоро вновь догоняет и настигает дразнящий недружный хор:
— Же-них и не-вес-та… тили-тили тес-то!..
Айгар искоса взглядывает на Лелде, вопросительно смотрит, испытующе — и внезапно, вдруг, так нежданно, будто прежде ее не знал и теперь видит впервые, так нечаянно для себя самого, что просто понять трудно, где у него раньше глаза были, делает потрясающее открытие, что Лелде красивая. Тонкий профиль, темно-русые длинные, гладкие волосы, стройная фигура — все в ней изящно и, оттененное белизной снега, так красочно: румяное от мороза лицо, черный блеск волос, красный, как маков цвет, шарф, серая шубка. И ослепленный этим изяществом, яркостью красок, как солнцем, он чувствует, что лицо его заливает жаром, и оттого теряется еще больше. Он не знает, куда деть глаза и руки, и неотрывно смотрит куда-то вдаль, а ладони сует в карманы, зажав портфель под мышкой, и пальцы, отпотевая в тепле, немеют и горят, и так же горят и пылают уши под незавязанной шапкой. Он желал бы коснуться Лелде и в то же время не смеет даже взглянуть в ее сторону. Он мечтает — скорее б показался его дом и спас его от этой беды и напасти, и в то же время дом приближается пугающе быстро, бежит навстречу, как скорый поезд. Его охватывает сильное, жгучее желание удержать Лелде, не упустить и рассказать что-нибудь интересное, такое потрясное, чтобы она не захотела уйти, но язык у него точно приклеенный, голова пустая как барабан и ни единой мысли — хоть шаром покати, а ведь он совсем не из молчунов, скорее напротив, за словом в карман не лезет и не раз получал по шее именно за болтовню.