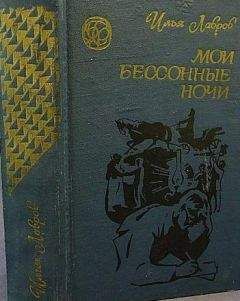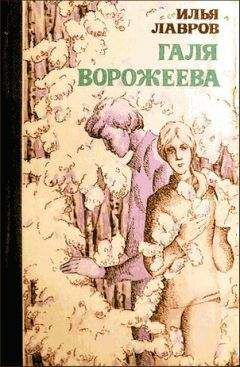Однажды дед по своим извозным делам попал в деревню Прокудкину. И там высмотрел в бедной семье Дуняшу. Это была тихая, скромная, светловолосая девушка. О Дуне Вакутиной в деревне говорили как о хорошей работнице и послушной дочери. Да и на лицо она была привлекательной, этакая Дунюшка из русской песни. Ну и заслали сватов. Да не принесло это Дунюшке счастья…
Позднее, уже старой, мать рассказывала мне историю своего замужества так:
— Уговаривал меня тогда тятенька: «Богатые они! В новых платьях ходить будешь, хозяйкой станешь!» А я ему: «Не люблю его, тятенька!» Отец этак виновато шепчет мне: «Ничего, стерпится — слюбится». Чуял он, что не надо бы неволить меня, нашла бы я пару по сердцу. Да ведь кто знает, вдруг маху дашь, дочь счастья-богатства по глупости лишишь. Не часто ведь богатей сватаются к беднякам. А вдруг, мол, весь век девке придется горе мыкать, разутой ходить, в поле не евши, не пивши горб гнуть? А я упала на грудь тятеньке, плачу, шепчу: «Не отдавай меня, тятенька. Ведь нам, бедным-то, несладко у них, у богатеев. Будут каждым куском попрекать. На тычках жить — горя полным ртом хлебнешь!» А тятя у меня был, царство ему небесное, забитый, безответный. Как сейчас вижу, маленький такой, неказистый, сутулый, руки длинные, ноги в домотканых штанах, кривые… Вспомнил он, видно, всю свою горькую жизнь да и тоже заплакал. Заплакал оттого, что нет силушки справиться с бедностью, что она заставляет неволить дочку. Поплакали, поплакали вместе, помолились да и дали согласие. Помню, на прощанье утешал меня тятя: «Господь не оставит тебя, Дунюшка». Но, видно, согрешила я шибко, забыл меня господь. Так всю жизнь и горела в огне. Только и вздохнула, когда господь прибрал его, отца-то вашего. Сильно уж он бил меня, пьяный. Теперь и вспомнить страшно.
Почти каждый вечер ныло сердце, я вздрагивал от малейшего стука, подбегал к окну.
И вот гремят колеса, конь заворачивает к воротам, хриплый голос орет:
— Авдотья! Чтоб тебя паралич расшиб! Оглохла, трясучка?!
У матери лихорадочно горят щеки. Она выдергивает палку, распахивает ворота, отец, лежа на спине в телеге, куражится, задирая ноги. Сквернословя, он вкатывает в свое царство.
А через полчаса нас уже прячет кто-нибудь из добрых соседей. Мишка-воевода принимается за свои дела.
Он и трезвый нехорош. Нищему, заглянувшему в калитку, кричит:
— Катись комом! Самим жрать нечего! Расплодилось вас как собак!
На маму, купившую дочке платье, ворчит:
— И в старом платьишке могла бы прокрутиться, не велика барыня! Транжиришь деньжонки! Гну горб на вас, чертей! Ездите на моей шее. Жрете в три горла.
Шура читает — отец брюзжит:
— День и ночь мозолишь глаза книжонками. Лучше бы делом занялся. Вон пимишки надо подшить. Не напасешься на вас, дармоедов.
Шура возмущенно защищается. Отец цыкает:
— Не огрызайся, зубастый черт! Ученый больно стал. Всю жизнь на своем горбу таскаю вас, чертей! Комсомолия!..
Идем играть на улицу или возвращаемся с улицы, он встречает и провожает:
— Чего расхлебенили дверь? Носят вас черти взад-вперед! Всю избенку выстудили! Еще ни одной щепки не заработали. А я все жилы вымотал на вас, крученые. Поди попробуй, заработай их, дровишки-то! Поворочайте кули, так узнаете цену копейке! Привыкли на чужой шее ездить!
И так целые дни зудит, лается, по выражению матери.
Все делается не по его. Все тащится из дому, а не в дом. Никто ничего не бережет. Никто по хозяйству не поможет, все книжки мусолят, в ученые лезут. Тоже мне бары нашлись!
Он постоянно пилил нас:
— Давно ли ботинчёшки была новехонькие, а уже всмятку расхлестали. Тащите лапы по земле, как дохлые, поднять их лень. За каждую кочку цепляетесь, чтоб вас паралич расшиб. Сами-то еще гроша ломаного в дом не принесли и медной пуговицы не заработали. Со своими книжонками скоро зубы на полку положите!
Покупал он одежду нам редко, а если и покупал, то навырост. Большие ботинки «Скороход», белые заячьи шапки, длинные пальто. Я их все помню. Помню дивный запах кожи от скрипучих ботинок, меха — от шапки, сукна — от пальто.
Помню, как покупалась нам обувь.
Отец открывал коробку за коробкой с нарисованным ботинком и с надписью наискось: «Скороход». Он извлекал из коробки сразу оба ботинка, связанные шнурками, и начинал исследовать. Отец пытался просунуть большую руку в блестяще-черный ботинок. Он ощупывал стельку, не торчат ли, мол, деревянные шпильки; громко щелкал ногтем по остро пахнущей проспиртованной подошве, гнул ее. А зеркально-гладкая подошва была прекрасна: она темно-палевая, в каких-то паутинистых кругах, как свежий пенек. Эти круги сходились в темное пятно на середине толстой подошвы. Отец пытался растянуть крупные рубчатые швы, проверяя, крепко ли они сшиты. Долго и подозрительно разглядывал их. Потом расстилал на полу шебуршащий желтый лист оберточной бумаги и заставлял меня надеть ботинок.
— Жмет? — хмуро спрашивал он. Вспотев от волнения, я смущенно топтался на листе и уверял:
— Нет. Нисколько.
— Пальцы-то не упираются в носок?
— Нет! — и я шевелил пальцами, елозил ногой — в ботинок могла влезть еще такая же нога.
— Этому «скороходу», товарищ, как и в царские времена, износу не будет, — любезно изгибался бывший приказчик купца Второва, а теперь советский продавец. — По старинке еще шьются.
— На них, как на огне горит. Не напасешься. Ходить по-человечески не умеют — скребут по земле ногами, — ворчит отец.
Тщательно исследовалось еще несколько пар, и наконец он вытаскивал бумажник и начинал тщательно и долго отсчитывать деньги, потирая в пальцах рубли — дескать, не слиплись ли…
Обо всем почему-то отец говорил презрительно: «домишко, коровенка, лошаденка, сапожишки, огородишко»…
Мать часто вздыхала:
— Господи, всю-то он шею нам перегрыз!
И вот у светловолосой Дуни из деревни Прокудкиной началась новая жизнь.
У нее, кроме меня, были мои братья Шура и Алеша, сестры Маруся и Нина.
Мама кормила нас, обмывала, ласкала, лечила, не спала ночей. И стирала. Стирала для нас, стирала для людей, приносила вороха белья, ходила стирать на дом к «господам», к «барыням».
Помню, в нашей кухне — клубы пара. Стены, как в бане, усыпаны каплями. В деревянном корыте шапка мыльной пены.
Все мое детство завешено чужим бельем. Всегда через двор были протянуты веревки, и ветер взвеивал простыни, рубахи с мотающимися рукавами, батистовые с кружевами диковинные панталоны.
Зимой белье застывало на веревках. Мать втаскивала охапками стучащие, картонные простыни, и в доме радостно пахло снегом, морозцем. От пачки голубоватых простынь вился белый дымок, они обросли пухом инея, если пощелкать, простыни звенят, гремят.
Мать пугалась:
— Не троньте, сломаются!
Кроме стирки, мать еще белила. Ее приглашали в разные дома, и она целые дни белила. Возвращалась домой смертельно усталая, с опухшими, красными руками в маленьких ранках. Мать объясняла: «Известка извертела». Ночью не могла уснуть от боли, держала их на весу, шепотом молилась, просила у бога помощи.
Отец корил куском хлеба, а «гнула горб» на нас мать.
Кроме того, чтобы одеть, накормить нас, нужно было подумать и о душе нашей. Но что могла дать нам Дунюшка из деревни Прокудкиной? И все-таки то, что она дала, всю жизнь живет в моей душе.
Не живя, а, по ее выражению, «горя в огне», неграмотная, замученная непосильной работой, бедностью, оравой детей, мужем, она все же сохранила в себе ласковое сердце.
Нам, младшим, она рассказывала сказки.
Бывало, топится плита. Лампа погашена. Темно в кухне. В плите трещат сосновые поленья, позванивают золотые угольки. Огненные пятна трепыхаются на лицах, на стенах, на потолке. От этого кажется, что они шевелятся. А мать рассказывает сказки. Мы слушаем их уже, пожалуй, в десятый раз, но все равно сидим замерев. И от ее сказок становимся дружнее, добрей, фантазия наша оживает, работает вовсю.
— Темно было, пурга была. А в избе тепло, в печке медвежья лапа варится.
И рисуется мне избенка, озаренная пламенем из круглого печного чела, в огне черный чугун. В чугуне бурлит вода, валит пар. Из пара торчит медвежья лапа. Старуха и старик сидят на лавке. Старуха держит ухват. Старик подсунул руки под себя. А за стеной ночь, воет пурга. Она скребет когтями по стене, сечет по заледеневшему оконцу. А недалеко качается, гудит, засыпанный снегом, дремучий лес.
И вдруг под окошком: скрип! скрип!
И вдруг в дверь: торк! торк!
У меня во рту пересыхает. На какой-то миг чудится, что я сижу в той избенке и ясно слышу: скрип! скрип!
— Пришел медведь с липовой ногой, — звучит голос матери. — Медведь ревет: «Старик! А старик! Где моя нога?».
Я содрогаюсь, представляя все это.
А может быть, в такие минуты и началось мое «сочинительство»? Ведь мать говорит просто: «Темно было, пурга была», а я придумываю и вижу целую картину…