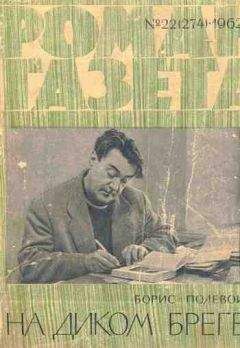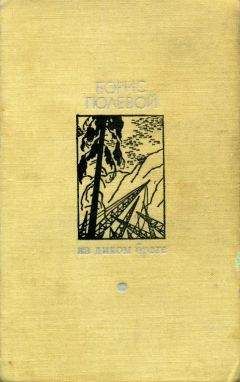На цыпочках Дина пересекла каюту, взяла роман. В романе этом действие развивалось как по маслу. Правильные люди совершали правильные поступки, неправильные мешали им, и сквозь действие шла правильная любовь. Там, в Москве, и потом на самолете по пути в Старосибирск она читала этот роман даже с интересом. А вот сейчас его заслонил этот бородач с былинной шевелюрой, эти парни, девушки, эта скрипачка, женщина-уточка с её протяжным, певучим говорком, бесконечный калейдоскоп просторных, могучих пейзажей, и, вопреки усвоенному ею от мужа обычаю — обязательно дочитывать до конца однажды начатую книгу, она сунула её на дно чемодана.
Когда же Вячеслав Ананьевич, сделав в записной книжке нужные заметки, свернул чертежи, снял нарукавники и поинтересовался, что же случилось, «Ермак», встряхнув стекла хриплым троекратным ревом, отваливал от маленького плавучего дебаркадера, прилепившегося прямо к крутому песчаному берегу. И тут они в последний раз увидели бородача. Большой, широкоплечий, он, чуть горбясь, поднимался по расползавшейся в песках дороге. За спиной на полотенце висела пустая корзина, в руке был футляр с ружьем. Он ступал по песку в своих мягких броднях необыкновенно уверенно. На вершине откоса, там, где дорога пряталась под сосны, в сизую тень, уже сгущавшуюся в лесу, незнакомец остановился, повернулся лицом к уходящему пароходу и застыл, опираясь о ружье. Его освещенная солнцем фигура четко выделялась меж золотых стволов.
— А ты знаешь, милая, теперь и мне тоже кажется, что я где-то его встречал, — сказал Пе-тин, чувствуя безотчетное, тревожное беспокойство. — Когда, где — не помню. Но встречал.
…На диком бреге Иртыша, —
нёсся над пароходом сочный баритон инженера Пшеничного. И молодой хор не очень дружно, зато громко подхватывал:
Сидел Ермак, объятый думой…
Когда грибы поспели и сладкий их аромат просочился из камбуза даже на палубу, Ганна Поперечная вынула из чемоданчика скатёрку и бросила её на каютный стол. Толстая Нина проворно расставила пластмассовые тарелки из дорожного набора, разложила ножи, вилки. Александр Трифонович достал оттуда же пластмассовые стаканчики, поставил их перед тремя приборами, коротким, точным ударом маленькой руки выбил пробку и водрузил бутылку на стол. Еще раз окинув всё критическим взглядом, он хрипловатым голосом скомандовал:
— Ну, Рыжик, зови своего бородатого приятеля.
Девочка выскользнула за дверь, а отец тем временем, прижав к груди буханку, стал осторожно, тонкими ломтями резать хлеб. Нарезал, положил ломти на тарелку, стряхнул в ладонь крошки, отправил в рот. Потом разлил водку в две большие и маленькую стопки и, так как ему показалось, что одна из них не полна, долил ещё, В каждом движении этого невысокого худощавого человека со светлыми, прямыми, будто соломенными волосами и такими же соломенными короткими усиками чувствовалась спокойная положительность. Она сказывалась и в том, как всё было тщательно подогнано в его полувоенном костюме, в чистом, только сегодня надетом подворотничке, в надраенных пуговицах, в негромком хрипловатом голосе и в этой манере ясно выговаривать слова.
Он приподнял крышку, закрывавшую миску с грибами, и оттуда полыхнул такой аромат, что у Александра Трифоновича или, как его все именовали, Олеся Поперечного, даже дрогнули ноздри хрящеватого носа.
— И куда это Рыжик пропал?.. За смертью только посылать девчонку.
Но не успела Ганна ответить, как в двери показалась круглая, хитрая физиономия, вся раскрасневшаяся от бега.
— Нету! — возбужденно объявила девочка.
— Сонечко, ну как же это нет, ясочка моя, куда же он делся? — спросила мать.
— Сошёл. Везде искала, нет. И дяденька капитан говорит — видел, как сходил. Я и у другого, у главного капитана, спрашивала: говорит, выбыл.
— Как, поднималась на мостик?
— Ага, прямо на мост. Там такая клетка, а в ней дядька колесо вертит. Все говорят: сошел.
— Сошёл! — досадливо присвистнул Олесь. — А мы человека за подарок и не поблагодарили. — И, огорченный, он стал сливать содержимое одной из стопок назад в бутылку. — Ну, Гануся, здоро-венька була! — Он чокнулся с женой, разом бросив водку в открытый рот, и семья принялась за грибы, которые Ганна, успевшая понравиться повару и потому допущенная в его святая святых, приготовила по-особому, со сметаной, с гвоздичкой, с лавровым листом.
Семья Поперечных давно кочевала со стройки на стройку. Переезды стали бытом. Как и дома, в пути каждый член её знал свои обязанности. Отец и сын выбегали на станциях и пристанях покупать припасы, Ганна, считавшая рестораны баловством, сама готовила какую-нибудь дорожную еду, а Нина, которую отец звал Рыжиком, а мать — Сонечко, то есть Солнышко, убирала, мыла, укладывала в чемодан посуду. И этот давно заведенный в семье порядок, при котором каждый, как прислуга расчета при артиллерийском орудии, знал своё место и свое дело, сильно облегчал тяготы передвижений.
И вот сейчас, когда пароход нёс их по огромной сибирской реке на новое, неведомое место, в положенный срок семья улеглась, и скоро в каюте, погрузившейся во мрак, где лишь окно неясно обозначалось голубоватым болотным светом, с коек, помещенных одна над другой, сразу же послышалось сонное дыхание детей, а рядом с Ганной хрипловатое, но тоже ровное и покойное посапывание Олеся.
А вот к Ганне сон не шел. Обида, как и острая боль, малоощутимая днем, ночью, когда всё стихло, снова овладела ею. И оттого, что муж, лежавший рядом, крепко спал, оттого, что дышал он равномерно, а поворачиваясь, будто маленький, даже причмокивал во сие, обида чувствовалась еще острее, перерастала в неприязнь к спящему: дрыхнет, горя ему мало. Наелся грибов, выпил и спит… Доволен! И нет ему дела, куда несет их этот старый пароходишко, что ждет семью там, в этом самом Дивноярском, в тайге, где, конечно же, поначалу опять не будет ни квартиры, ни школы для ребят, где опять зимой придется жить в тесноте палатки, на ночь наваливать на себя всю одежду и с вечера нарезать хлеб, потому что к утру буханки замерзают, их только разве топором руби. Умываться на морозе, а потом оттаивать пряди волос. Сколько раз это уже было и сколько обещал он ей: «Гануся, потерпи, последний раз!» И вот зазвучало: Дивноярское, Дивноярское. Пришло письмо… Все забыл, всё бросил, и вот они снова, бездомные, несутся неизвестно куда. Бродяга!.. Пройдисвит!.. Цыган проклятый!..
А ведь как хорошо зажили было в последний год в Усть-Каменогорске… В темноте каюты перед женщиной возникло жилье, которое они только что покинули: низенькие комнатки в одноэтажном доме, рассчитанном на четыре семьи; кухоньку, которую Олесь обложил кафелем, кресло перед печкой, где так хорошо было посидеть с шитьем или штопкой. Со всем расстались, всё распродали, кроме этой дурацкой складной мебели, которую он всюду таскает с собой. С любимым креслом Ганна не смогла расстаться. Оно ехало с ними где-то в багаже. Но куда его поставишь — в палатку? В барак? Все равно выбрасывать придется.
Олесь завозился на подушке, и Ганна отчетливо услышала: «…А эксцентрики переставьте…» И опять, почмокав губами, задышал спокойно, ровно. Женщина отодвинулась, неприязненно посмотрела на остроскулое лицо… Эксцентрики! И во сне машины… Какое ему дело до её горестей, до забот семьи, ни о чем не думает, эгоист! Ей показалось, что дочка сбросила одеяло. Ну, так и есть. Встала, укрыла дочку, поправила подушку у сына, выглянула в окно. Пароход шел правым берегом, а левый, скалистый, поросший поверху редкими голыми елями, виднелся с поразительной четкостью, будто тушью нарисованный на синей, обрызганной белой краской кальке. Отсветы луны, пересекавшие всё пространство до подножия скал, холодно мерцали, переливаясь, и вода, вспарываемая колесами, казалась от этого тяжелой, черной, будто нефть. Кругом ни огонька. И таким одиночеством пахнуло на женщину от этого мрачного пейзажа, что, передернув плечами, она поскорее нырнула под одеяло, прижалась к мужу и зашептала: «Любый мой, ну зачем мы туда едем? Чего нам не хватало в Усти?»
Четверть домика, клочок земли, огородик, куры, даже вишенки. Ей вспомнилось, как однажды принес Олесь под мышкой, будто банный веник, несколько вишневых саженцев, присланных ему каким-то приятелем с Украины. Вся семья, как на гостя-земляка, смотрела на эти слабенькие прутики с жидкими бороденками корешков. Вишни росли и в Полтаве, на родине Ганны, и на Днепровщине, откуда был Олесь… Вышни! Вышни! С величайшей тщательностью прутики посадили на солнечное местечко, так, чтобы дом закрывал их от злых ветров. На зиму обертывали деревца газетами. И ведь выходили! В прошлом году вишни цвели, дали завязи, вызрели в хмуроватом уральском климате. Получились кисловатые, но крупные. Их было мало — так, горсточка, но как они были дороги, эти родные «вышни», выросшие в суровом краю. И Ганна представила палисадник у дома и эти деревца, сгибающиеся под напором ветра: никто не укроет их на зиму, не окопает снегом. Останутся они, голенькие, стоять на морозе… Вспомнилась Катерина, жена механика, въезжавшего в их квартиру. Этой толстухе передавала Ганна и свой огородик, тяжелые зеленые гроздья помидоров на кустах, не дозревшие еще гарбузы, лежавшие, как булыжники, среди желтых, повядших плетей, и эти юные, нежные деревца. Передавала и наказывала, как со всем этим обращаться. Но толстуха рассеянно говорила: «Да, да, сделаю. Обязательно сделаю, Ганна Гавриловна, не беспокойтесь». А сама, должно быть, и не слушала, думала о новой квартире, прикидывала, что куда поставить… Разве эта сохранит?!.. И Ганне стало горько, будто в чужих, холодных руках оставила она детей. Горько и вдвойне обидно оттого, что эту горечь так никто с ней и не разделил. Она всхлипнула и повернулась, чтобы уголком наволочки вытереть глаза. Муж пошевелился и снова отчетливо произнес: «Говорю же, эксцентрики переставьте…»