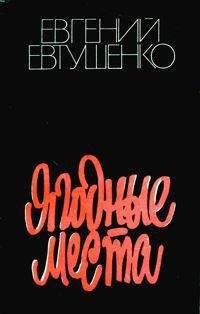Дело в том, что, всегда подобострастный с начальником, Ситечкин в действительности не любил Коломейцева.
Эдуард Ситечкин вырос в высотном доме, но в подвальном этаже. Мать Ситечкина работала в этом доме лифтершей, отец — сантехником. По вечерам они любили перемывать косточки всем знаменитым жильцам, «А вчерась космонавт приперся во втором часу, — со вкусом рассказывала мать отцу. — Я уже на диван прилегла, дремлю. Звонок у нас не работает, так этот звездный герой в дверь начал кулаком колотить. Ему все равно, что трудящего человека будит. «Колоти, колоти…» — думаю, а сама не шевелюсь, как будто не слышу. В космосе ты хозяин, а в подъезде — я. Так он знаешь что придумал, бесстыдник? Окно в агитпункте открыл и сквозь него влез, все пуговицы ободрал. «Что за безобразие? — говорит. — Почему вы дверь не открываете?» — «Вы бы совесть поимели, — говорю. — Надо вовремя домой приходить. Уважайте дежурных. А вы, тем более, что космонавт, пьянками по ночам занимаетесь. Я вот напишу на вас письмо в ваш космонавтский профсоюз, так они вас по головке не погладят. Не спасет и скафандр…» Ну, тут он оторопел: «Я, говорит, не пьянками занимаюсь, а только что с тренажа…» Так я ему и поверила! Знаем мы эти тренажи… А еще газеты его фотографируют. Его бы сфотографировать, когда он в окно агитпункта лез, словно кот мартовский… «Да, не уважают рабочего человека, — сокрушенно покачивал головой сантехник. — Вызвали меня к певице Светозаровой. Это та, что раньше с аккордеонистом жила, а теперь с собственным шофером путается. «Помогите, говорит, я чулки в умывальнике простирывала, да и перстень смыла вместе с водой в раковину». Вскрыл я трубу, а перстень этот в мусоре застрял. Обрадовалась народная артистка, перстень снова на руку надела и смеется: «Оказывается, и мусор в канализации может помочь!» Будто упрекает меня. А потом в радикюле роется, пятерку дает. Это пятерку-то за перстень бриллиантовый! Он небось тыщи три стоит… А еще лауреатка!»
Слушая родительские разговоры, Эдуард Ситечкин с детства проникся презрением к людям. Если даже самые знаменитые из них, которых в телевизоре показывают, такие, то какие же тогда остальные! Отец, часто бывавший по сантехделам в квартирах знаменитостей, описывал их мебель, ковры, торшеры, и Эдика свербило: почему это все им, а не ему? Как пробиться туда, в верхние этажи? Надо, наверное, стать образованным — интеллигентом. Имя у него уже было вроде интеллигентное — родители как будто с задумкой наперед его Эдуардом назвали. Эдик стал подсматривать манеры у тех, из верхних этажей, даже пробор у него был подсмотренный. Особенных талантов у Эдика не было, но он налегал на зубрежку — и золотую медаль высидел. Держали семейный совет — куда Эдику поступать. Мать говорила, что физики здорово загребают. Отец утверждал, что певцы. На физмате Эдика завалили. Целый год брал уроки пения, развивал голос, ходил на все концерты Магомаева и Кобзона — манеры подсматривал. Снова завалили. В геологию Эдик попал случайно. Один профессор геологии с верхних этажей однажды застрял в лифте, а когда открыли после пяти часов сидения, то оказалось, что не выдержал — малую нужду справил. Мать Эдика было подняла крик, а потом стихла, смекнув, что на смущенности профессора можно сыграть, да и взяла его за жабры. Это, мол, между нами останется, я шума поднимать не буду, а вы, профессор, помогите мне моего балбеса хоть на геологический приткнуть. Профессор, передергиваясь от глупейшей ситуации, приткнул.
Ситечкин изо всех сил старался быть современным студентом. Теперь его отец вместо пятерок добывал для сына у высотных знаменитостей билеты в «Современник», на Таганку и даже в консерваторию. Когда один поэт с верхних этажей поднимался в лифте с какими-то иностранцами, мать выцыганила у него для сына книжку с автографом, что в глазах иностранцев, видимо, выглядело признанием народа в лице лифтерши. Ситечкин эту книжку как бы невзначай иногда раскрывал перед студентами так, чтобы автограф был виден, а на вопросы, близко ли он знаком, загадочно улыбался. Но тем не менее Ситечкину никак не удавалось выглядеть интеллигентом. Что-то в нем было скользкое, отталкивающее, а это в геологической среде не проходило. Однажды отец рассказал притчу в назидание Эдику:
— Служил я в стройбате, и был у нас сержант полуграмотный, но шибко до власти охочий. Неподчинения не терпел. Выстроил он нас, новобранцев, и говорит: «Первое вам задание — корчевка. Выкорчуйте весь этот квадрат, а уж потом берите свои люминьевые ложки — и за щи». Один новобранец ему с улыбочкой: «Извините — алюминиевые…» Сержант на него, как удав на кролика: «Выйди из строя…» Тот вышел. «Ты кто такой?» — «Я филолог, товарищ сержант». — «Так вот что, Филонов, видишь эту сосну?» — «Вижу». — «Выкорчуешь ее один. Чтоб никто не помогал! И только потом — за ложку. Люминьевую». Все уже отобедали, отужинали, а интеллигент все со своей персональной сосной возится. Наконец является к сержанту, весь в земле, на ногах еле стоит, но в глазах прояснение. «Разрешите доложить, товарищ сержант? Доверенная мне сосна выкорчевана…» — «С корнями?» — спрашивает сержант недоверчиво. «С корнями», — отвечает интеллигент. «А под корнями что?» — спрашивает сержант. Подумал интеллигент и отвечает: «Ложка, товарищ сержант!» «Какая же?» — ехидно спрашивает сержант. «Люминьевая, товарищ сержант», — вздохнул интеллигент… Так что ты, Эдуард, в бесполезную самостоятельность не ударяйся. Иначе съедят. Сержанты — они главней генералов, потому что завсегда рядом…
Эта притча, а скорее всего чей-то заемный анекдот, глубоко запала в Ситечкина, потому-то он так и поддакивал Коломейцеву. На самом деле Коломейцеву он смертельно завидовал. Коломейцев внушал людям если не любовь, то уважение. С ним считались. С Эдуардом Ситечкиным не считался никто. Его презирали даже те, перед кем он изо всех сил выслуживался, в том числе и сам Коломейцев. У Коломейцева была власть, у Ситечкина ее ни над кем не было, за исключением власти над собой, которой он втайне гордился, заставлял себя унижаться, потихоньку думая: «Ладно, придет и мой черед…» Коломейцев нравился женщинам, а Ситечкин с ранней юности жестоко был уязвлен тем, что, избавляя его от мук, возникавших в результате неосуществленных желаний, мать когда-то подложила ему туповатую дылду-уборщицу, а потом рассчитывалась с ней сама, в придачу к десятке дав трехлитровую банку маринованных грибов, до которых та была большая охотница. Ситечкин завидовал Бурштейну за то, что он умеет независимо говорить с Коломейцевым. Лачугину — за то, что у него отец академик. Вяземской — за то, что она хорошо стреляет. Ивану Ивановичу Заграничному — за то, что ему все, как Ситечкину казалось, до фени. Кале — за то, что она хохотушка. Даже Кеше он завидовал за его горб, потому что Ситечкину казалось, что этот горб дает Кеше какие-то преимущества. Зависть Ситечкина распространялась на все человечество. Ситечкин завидовал американцам за то, что они живут в Америке. Членам правительства — за то, что они стоят в праздничные дни на мавзолее. Пьяницам — за то, что они получают удовольствие, когда пьют. Трезвенникам — за то, что умеют не пить даже с нужными людьми. Читая фельетоны о расхитителях, Ситечкин завидовал им, хотя и презирал за то, что они попались. Завидовал директорам универмагов, гастрономов, комиссионных магазинов, автостанций. Завидовал обладателям дач, машин, Ленинских и Государственных премий. В зависти не брезговал и Нобелевской. Завидовал всем, кто красив, — даже женщинам. Завидовал тем, кто старше, потому что в возрасте видел некую дополнительную возможность продвижения в верхние этажи. Ситечкина бесило, что он стареет слишком медленно, — ему казалось, что его молодость ему мешает продвигаться. В то же время самому рваться вперед слишком энергично Ситечкин считал небезопасным: он заметил, что энергичность вызывает тревожное недоверие у людей, прочно сидящих на своих местах. Тот, кто рвется вперед, может и поскользнуться. Гораздо легче выезжать на поскальзывании других.
Прочитав письмо из управления и мгновенно оценив ситуацию, Ситечкин понял, что это — его звездный час. В управлении не могут не заметить молодого специалиста, не пошедшего на поводу у своего начальника, нарушившего указание руководства. Если Коломейцев погорит, зачем гореть вместе с ним. А что, если Коломейцев найдет касситерит?
Ситечкин заколебался. Нет, даже в случае удачи Коломейцеву не простят его ослушания. За касситерит поблагодарят, но что-нибудь другое припомнят. А Ситечкина не забудут. Такие, как Ситечкин, всегда пригодятся.
И Ситечкин сделал выбор.
Когда Коломейцев с Бурштейном вернулись к костру и склонили головы над картой, Ситечкин с ненужной громкостью бросил вызов:
— Виктор Петрович, а что все-таки в этом письме? Почему вы его скрываете?
Коломейцев и представить не мог, что всегда юлящий, извилистый голос Ситечкина способен на такую наглую повелительную вопросительность. Прежнего угодничества как не бывало — перед Коломийцевым предстал неожиданно выпрямивший свою подхалимистую спину враг. Даже глаза у Ситечкина стали другими: раньше они суетливо метусились на лице, заискивали, восторгались, присоединялись, а теперь застыли навыкате, полные язвительного превосходства. Лачугин вздрогнул, понял: Ситечкин знает. Бурштейн изумленно изучал Ситечкина из-под очков, как будто тот наконец-то выпустил самого себя, как джинна из бутылки. Вяземская взглянула на Ситечкина без тени удивления, со спокойным презрением.