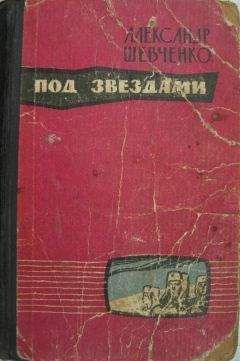— Ромадин, ложись!
— Ложитесь, товарищ старший лейтенант!
Вскоре прибежал Скиба и привел Болдырева и Лушина.
— Крупное дело, видно, гитлеровцы затевают! — указал Скиба на позиции немцев.
Болдырев, деловито осмотревшись, сразу же выбрал себе место в траншее и установил ручной пулемет. Солдаты оживленно приветствовали своего бывшего помкомвзвода:
— Не забыл еще, товарищ старшина, где затвор-то у пулемета?
— Что вы, ребята, думаете, я и в самом деле в завхоза превратился? — посмеиваясь, отвечал Болдырев.
Лушин, впервые попавший в бой, не знал, что ему делать. Он стоял с автоматом на шее, чуть не по пояс возвышаясь над бруствером своей нескладной, долговязой фигурой, беспомощно оглядывался по сторонам, жмурил глаза от дыма и то и дело протирал очки.
— Ложись, Глеб, что ты стоишь, яко столб! Убьют же тебя, чудачище! — крикнул ему Болдырев.
— Вот что, товарищ Лушин, — сказал Шпагин, — вам, пожалуй, лучше будет заняться подноской патронов. Ступайте-ка на патронный пункт, да нагибайтесь пониже — здесь это не считается зазорным!
Атака началась сразу на всем участке батальона. Немцы шли на этот раз не цепями, а отдельными мелкими группами, укрываясь за танками. Но Шпагин все же заметил, что на правом фланге, где был стык с первой ротой, немцы двигались гуще, плотнее, очевидно, там был намечен их главный удар. Он тотчас же позвонил об этом Арефьеву.
— Ротой, огонь! — крикнул Шпагин и выстрелил вверх красную ракету. Команду подхватили командиры отделений, и вдоль траншеи покатились крики:
— Огонь! По местам! Глядеть вперед! Приготовить гранаты!
Снаряды густо рвались среди наступающих немцев, выхватывая целые группы, по всему полю чернели на снегу фигуры убитых и раненых.
Наблюдатель, юный лейтенант с франтовато закрученными усиками, после каждого залпа кричал в трубку:
— Прицел меньше два!.. Прицел меньше два!..
Из кустов можжевельника прямой наводкой била по танкам пушка истребительного дивизиона, подпрыгивая при каждом выстреле. Огонь нашей артиллерии усиливался с каждой минутой. Немцев, бежавших по полю, становилось все меньше, на левом фланге их атака расстроилась, захлебнулась, но на участке первого взвода они продолжали приближаться. И вот Шпагин увидел, как они добежали до наших траншей и исчезли в них.
«Неужели прорвались? Нельзя допустить прорыва!»
Шпагин не знал, как он это сделает и сможет ли сделать, но твердо знал одно: он должен быть там, в первом взводе.
— Траншею не отдавать! — крикнул он Ромадину. — И Пылаеву передай! Ясно?
С Болдыревым и Аспановым Шпагин бросился по траншее к первому взводу, за ними побежали Скиба и Корушкин. Через несколько секунд они столкнулись с Балуевым. Его лицо было залито кровью, глаза испуганно расширены.
— Немцы прорвались! — крикнул он, задыхаясь. — Командира взвода убило... Молев за подмогой послал!
«Хлудов убит?» Это известие вызвало у Шпагина тяжелое чувство: тут была и жалость к нему и досада на себя за то, что не все сделал, чтобы поддержать его.
— За мной! — крикнул он. Впереди он слышал частый стук пулемета и треск автоматов. «Значит, не все еще пропало: кто-то остался там и дерется...
В это утро на передовой было тихо, и Маша впервые за много дней нашла время написать домой письмо. Она сидит, низко склонившись над снарядным ящиком, и торопливо пишет: кто знает, сколько времени в ее распоряжении! Она уже написала обо всем: о тяжелых боях, которые ведут наши части под городом Н., о том, какие замечательные офицеры и солдаты в роте, где она служит. Конечно, писала она, ей иногда бывает трудно, но с такими людьми ничего не страшно.
Написать ли матери об Андрее?
В землянке холодно, Маша протягивает руки к коптилке, будто хочет поймать бабочку — трепещущее пламя.
Сначала она была подавлена чудовищной несправедливостью случая: ранение Андрея, потом это неожиданное расставание... Но она не жалела себя, во всем обвиняла себя одну. Она не надеялась увидеть когда-нибудь Андрея, но дала себе слово любить его всегда, наперекор всему, даже если он умрет, — что из того, что он не будет знать об этом! Это решение не сделало ее счастливой, но дало ей силы перенести горе. Постепенно боль улеглась, ушла глубоко внутрь. Маша во многом изменилась: стала сдержаннее, собраннее, строже стали ее глаза.
Она не была счастливой, но не чувствовала себя одинокой: она постоянно думала об Андрее, тепло этой мысли она все время ощущала в себе.
Только по ночам непонятная тоска сдавливала ей сердце, ей долго не спалось, и она спрашивала себя: неужели всегда счастье такое трудное? А в чем, собственно, состоит оно? Не в этих ли страданиях и есть счастье? Поймет ли мама ее? Ведь она, верно, до сих пор считает ее маленькой девочкой. Наверное, она напишет в ответ, чтобы Маша была осторожнее — ведь она всегда так боялась за своих детей! Милая мама, она совсем не знает Андрея!..
Маша закидывает руки за голову и, раскачиваясь на скамейке, начинает петь тихо, грустно:
Между небом и землей
Песня раздается...
Задумчивая, далекая улыбка озаряет ее лицо,
...Кто-то вспомнит про меня
И вздохнет украдкой...
Тишину взламывает страшный грохот разрыва, землянка вздрагивает, коптилка гаснет. Маша неподвижно сидит в полумраке, растерянно слушая, как на бумагу с шумом падают комья земли.
«Атака! Немцы атакуют!» Она перекидывает через плечо санитарную сумку, надевает шапку — рукавицы она не может отыскать в темноте — и выбегает из землянки.
В ходе сообщения ей повстречался Лушин. На его, как всегда, озабоченном лице проглядывало сейчас какое-то новое выражение радостной решимости.
— Вы куда, Маша? Там немцы напирают — страшное дело! Бегу за патронами!
В первый взвод Маша прибежала, когда немцы были уже совсем рядом. Хлудов в предельном возбуждении швырял гранаты и что-то кричал солдатам, бегая по траншее от одного к другому, но грохот стрельбы заглушал его крики. Увидев Машу — заросший, с выпученными глазами, он был страшен, — он истерично закричал на нее:
— Ты зачем здесь? Немедленно уходи!
— Никуда я не уйду! — Маша вызывающе сдвинула шапку и метнула на Хлудова гневный взгляд.
Она осмотрелась.
Двое тяжело раненных лежали в подбрустверном блиндажике. Маша перевязала их и отправила с Постновым, который подоспел к этому времени с санитарной лодкой. Молев, стоявший за пулеметом, был ранен в голову: по его грязной, потной щеке тянулась широкая красная полоса.
— Давай перевяжу! — тронула его Маша.
Молев зло крутнул большой головой:
— Не до этого!
Тогда Маша сняла с него простреленную шапку и, пока он стрелял, перебинтовала голову.
Слева в траншее грохнул тяжелый немецкий снаряд, и оттуда донесся низкий, утробный, похожий на звериный рев, крик. Маша побежала туда.
Пожилой солдат Павлихин сидел с закрытыми глазами, привалясь спиной к откосу траншеи, около него возился, сгорбившись, Мосолов, пытаясь разрезать валенок и беспрестанно оглядываясь по сторонам на разрывы снарядов.
— Мосолов, ступай на свое место!
Маша опустилась перед Павлихиным. Он был весь изранен осколками. Маша наложила ему давящую повязку на большую рану в животе.
— Прямо в траншею снаряд угодил... — сморщив худое лицо, говорил Павлихин. — Спасибо тебе, Белянка... только лишнее это... не жить мне.
Стыдитесь, товарищ Павлихин, вы же солдат! Замерзнуть хотите здесь? Сейчас же идемте! — строго и повелительно сказала Маша, просунула голову Павлихину под руку, обняла его за пояс и повела к ходу сообщения. — Скорее Павлихин, нельзя останавливаться; вон в лощине безопасное место, я положу вас там и пойду за санями, — уговаривала Маша совсем обессилевшего Павлихина.
Но когда они подошли ближе к лощине, Маша увидела, что солдаты, которых она издали сочла своими, были немцы в длинных серо-зеленых шинелях.
«Что это значит? — испугалась Маша. — Видно, они прорвались. А как же Хлудов и его взвод?»
— Гляди, Павлихин, немцы прорвали оборону...
Они поползли вправо, к ротной землянке, замирая неподвижно на снегу, если близко пробегали немцы, останавливаясь, когда рядом рвались снаряды.
Через несколько шагов Павлихин остановился, он дышал тяжело и хрипло.
— Брось меня, Белянка, мне все равно не дойти. Иди одна, ты успеешь, а мне все равно не жить...
— Нет, Павлихин, будем пробираться вместе!
Маша подобралась под него, взвалила себе на спину и снова поползла. Теперь она ползла медленно, часто останавливалась, ей не хватало дыхания. Руки ее побелели — она была без рукавиц, — снег набился в рукава полушубка, в валенки, но Маша не чувствовала холода. Только бы добраться к своим... только бы добраться...
По пути Маша подобрала автомат, валявшийся возле убитого немца. «Живой не дамся!» — решила она. Скоро она почувствовала, как Павлихин тяжело повис на ней и стал сваливаться в снег.