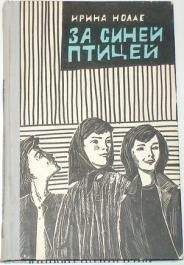Тетя Васена почувствовала озноб, поежилась, оглядела спящих и, пододвинув к печке скамейку, вытянулась на ней, прикрыв голову платком, а ноги телогрейкой.
Все спали в бараке. Спала Маша, так и не получив ответа на свой тоскливый вопрос о микробах преступности. Спала и Марина, не сумевшая ответить ей. Все спали… И только далекий месяц, который Маша так хотела сделать свидетелем, не спал, равнодушно заливая тронутую морозом землю холодным своим светом. И только он один — истинный свидетель ночной жизни — видел, как уже после полуночи на крыльцо барака, где помещалась бригада номер четыре, выскользнули две фигуры. Они постояли немного, а потом из барака вышли еще трое. О чем-то пошептались, поглядывая на дверь. Потом первые две ушли в барак, а трое спустились с крыльца и направились по серебристой от инея дорожке куда-то за соседние бараки. Черная тень строений укрыла их от месяца, и он больше ничего не мог увидеть и не смог ничего сказать, если бы его даже пригласили в свидетели.
Над спящими витали сны. Васене снился птичник. Она идет вдоль клеток, тянущихся бесконечными рядами в три яруса, и сыплет в кормушки пшеницу, и ее ничуть не удивляет, что куры за сетками не белые, а темно-голубые. Они провожают ее умным человеческим взглядом и важно кивают голубыми головками. И чем дальше проходит Васена, тем все темнее и темнее окраска необыкновенных птиц. Васена начинает пугаться: где-то обязательно должны помещаться белые куры, а их все нет. Она подходит к столбу, на котором висит колокол. Протягивает руку, но колокол начинает звонить сам. Васена закрывает уши ладонями, а колокол все звонит и звонит…
…А Маша Добрынина видела во сне Галю Чайку, Они сидят вдвоем в большой пустой комнате, где у стены стоит черная школьная доска. Маша говорит Гале: «Я была почище тебя воровкой, и то бросила. Иди решай задачу». А Галя отвернулась и молчит. Тогда Маша хватает ее за плечи и кричит: «Ты эти штучки брось и бригаду не разлагай! Какая ты воровка?! Мне Санька писал, что он тебе не разрешал воровать!» Тогда Галя медленно поворачивает к ней лицо, и Маша с ужасом видит, что Галя ослепла. Она смотрит на Машу неподвижным взглядом, и лицо ее похоже на лица тех белых статуй, которые Маша видела в Москве в музее. Маша закричала, но голоса своего не услышала. Она схватила себя руками за горло и еще шире открыла рот. Но голоса не было. А Галина пошла к доске, и Маша была поражена, что слепая идет прямо и ровно, мимо столов и скамеек, которые откуда-то появились в комнате. А вместо доски в стене зияет большое, квадратное отверстие, и сквозь него видно небо — темное, звездное. Маша знает, что, если Галя сделает еще один шаг, она провалится в пропасть, потому что за этой стеной, за этим отверстием ничего нет, одна пустота. Она бежит за Галиной, а та поворачивается к ней и улыбается слепым лицом. «Остановись!» — наконец-то удается крикнуть Маше, и она хватает Галину за платье. Но в руке ничего нет, Маша хватает пальцами пустое место. Нет и Галины… Маша вздрагивает и открывает глаза.
У открытой дверцы печки стоит на коленях тетя Васена. В окна заглядывает невеселый, серый рассвет. В барак вошел комендант и две надзирательницы. Маша приподнялась на локте. «Чего это они пожаловали в такую рань, да еще втроем?».
…А Марина не видела никаких снов. Она спала крепко, устав от множества забот, тревог и волнений, свалившихся на нее с тех пор, как она стала бригадиром малолеток. Проснулась она внезапно — оттого, что знакомый голос отчетливо произнес над ее ухом непонятное слово: «Шмон».
Глава восьмая
«Большой вальс»
— Вставай, бригадир, — шмон! — тревожно шептала Маша, наклоняясь над Мариной.
— Что случилось? — Марина мгновенно открыла глаза.
— Обыск… Понимаешь? По всей зоне бегают.
Обыск! В преступном мире не говорят «обыск». Воры говорят: шмон. А на швейном, где раньше была Марина, интеллигентные дамы, работающие в конторе, придумали благозвучное название — «вальс». Если обыск был только в одном бараке, то это был просто «вальс», а если по всей территории лагпункта — то «большой вальс».
Марина торопливо оделась.
— В чем дело? Что они ищут?
Но Маша ничего не знала. За час до подъема к ним в барак пришли комендант и две надзирательницы. Маша только что проснулась и видела, как они быстро обошли все койки, вероятно, проверяли, все ли на своих местах. А потом ушли.
— А что Васена говорит?
Маша пожала плечами:
— Что она может сказать? Лазают, лазают, спать не дают… Вот и весь ее разговор.
— Пошли к хлеборезке, там сейчас все бригадиры. Может, узнаем.
Навстречу им попалась одна из надзирательниц.
— Вы куда? — озабоченно поглядывая по сторонам, спросила она.
— В хлеборезку.
— А ну, Добрынина, вернись в барак и предупреди всех, чтобы никто, кроме дневальной, не смел выходить. Понятно?
— Не очень-то… — Маша сделала такое же озабоченное лицо, какое было у надзирательницы. — Вернее, совсем непонятно. А как же на «пятый»?
— Не умрут, скоро дадим сигнал, тогда можете хоть на десятый бежать. — И надзирательница, так и не оценив Машин юмор, торопливо пошла дальше.
— Ты вернешься? — спросила Марина.
— И не подумаю! Без меня там уже сто раз были и предупредили. Пошли скорее!
У хлеборезки собралось много народу — все бригадиры и все помощники. Оживление царило такое, слоено сегодня ожидали выдачу двойной пайки хлеба. Переговаривались, строили самые различные предположения.
— Это — перед большим этапом…
— Не болтай, просто начальству делать нечего.
— Самой тебе делать нечего! Сперли что-нибудь, вот и бегают, ищут.
Кто-то высказал мысль, что лагпункт будут освобождать для военнопленных. Кто-то поправил:
— Не для военнопленных, а для малолеток, а нас распределят по женским лагпунктам.
— Скорее всего, за зоной кого-нибудь из начальства очистили…
— Так какой дурак потащит краденое в зону?
В общем, никто ничего не знал. Но очевидно было одно — на лагпункте шел «большой вальс». А здесь это было немалым событием. Обычно обыски проводились только по баракам. Придет надзирательница и небрежно, лишь бы «номер отбыть», перевернет подушки и заглянет под нары, где ничего нельзя было спрятать, потому что под ними не разрешалось держать ни чемоданов, ни ящиков, ни узлов. Все вещи хранились в специальной «камере хранения», ключ от которой был у старосты барака.
О том, что предстоит обыск, женщины узнавали какими-то совершенно непонятными путями. Узнавали и предпринимали контрмеры: уносили в цеха спицы, взятые для вязки «собственных» вещей, прятали в укромные местечки шарфы, свитера и рейтузы, связанные из казенной шерсти, наворованной в тех же цехах.
По правилам лагерного режима в бараках запрещалось держать топоры, ножи, ножницы, стеклянные банки и другие «режущие и колющие предметы». Запрещалось иметь химические карандаши. Марине объяснили, что бывали случаи, когда заключенные растирали грифель такого карандаша и пускали порошок себе в глаза. Для чего? Ну, иногда для того, чтобы не выходить на работу, иногда — чтобы избежать отправки на этап, — конвой больных не принимал. А иногда просто из желания «доказать» что-то администрации.
— Да ведь так можно и совсем без глаз остаться… — заметила Марина, узнав о столь необычной форме протеста против «начальства».
— Так уж и без глаз, — скептически ответили ей. — Думаешь, они полкарандаша туда насыпят? Так, немножечко, поскоблят и капельку в уголок глаза положат. Ну конечно, сразу слеза пойдет, карандаш растворится, вся морда синяя… Смотреть — с души воротит. Некоторые, кто ни разу не видел, аж пугаются: что с человеком? Ну, а нас этим не удивишь… А еще есть такие, что мыла нажрутся. Пена идет, как у припадочного. Они под припадочных и работают. Лежит, подлец, на полу, ногами бьет, слюни пускает. Артист, одним словом. А потом такого артиста — в стационар… Промоют, прочистят — и в карцер суток на двое без вывода: не симулируй, сукин сын.
Марине не приходилось видеть таких сцен, как не приходилось присутствовать при «больших вальсах». Непривычная озабоченность надзирателей, запрещение выходить из бараков, фантастические предположения, высказываемые бригадирами, — все это возбуждало ее и вселяло чувство тревоги за свою развеселую бригаду. Кто их знает, что им взбрело на ум?
— Послушай, Маша, а вдруг это наши забрались ночью в чужой барак. К Максютихе, например?
— Чепуха! — отмахнулась та. — Если даже они и увели какую-нибудь тряпку из чужого барака, то никто не стал бы поднимать такой суматохи. Нет, бригадир, тут дело посерьезнее.
— Будете или не будете хлеб получать? — крикнула из окошка хлеборезки завпекарней. — Что я тут с вами, буду до вечера возиться?