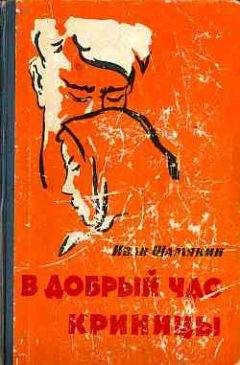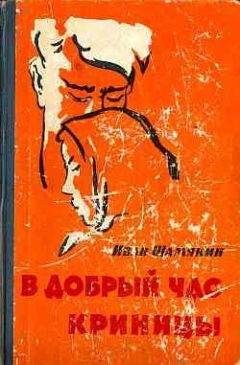— Ой, тяжко будет! — вздохнула Гайная.
— Вот это и хорошо, что тяжко, — усмехнулся Ладынин. Подошел Лесковец и, узнав, в чем дело, решительно заявил, победоносно поглядев на Василя:
— Моих пятнадцать человек будут работать без отрыва!
— Ты, голубок, сеял хочь раз? Максим покраснел.
— Посеешь — узнаешь, чего стоит в это время кажна людына, особенно теперь, после войны.
— Только не пугайте, Катерина Васильевна! Мы не из пугливых. Сеяли и знаем. — Василь произнес последние слова сердито. — Я подсчитаю и докажу вам, что во время сева у вас ежедневно гуляет половина людей…
— Научился ты считать чужих людей.
— За сутки вода спала на семь сантиметров, — вдруг, прервав их спор, объявил Соковитов и задумчиво продолжал — Войдет речка в берега — вынесу проект на натуру и… просите специалиста в «Сельэлектро»… Я свое дело сделал. Чем можно было — помог. Больше не могу! Работа, квартира—все готово… Вот сколько получил за зиму писем, — он похлопал ладонью по разбухшему карману, хотя там были совсем не письма, а расчеты по строительству.
Из-за штабелей выехала повозка, в ней плечом к плечу сидели два человека и мирно беседовали. Лазовенка засмеялся:
— Глядите, Байков и Радник помирились. Кончилась игра в кошки-мышки.
По предложению Ладынина все они расселись тут же, на бревнах, и Василь Лазовенка объявил заседание межколхозного совета открытым.
С поля Маша вернулась поздно. Однако не пошла сразу в хату. Поднялась на крыльцо и присела на лавочке, прижалась к ещё теплой стене. На какой-то миг усталость сковала все тело, она сидела равнодушная ко всему, слышала, что делалось вокруг, но не воспринимала. Давно уже стемнело, хотя за речкой, на северо-западе, небо было светлое, голубое, без звезд, с розовой полосой над горизонтом. Редкие звездочки мигали над головой. Было душно. Над улицей ещё висела поднятая стадом пыль. А деревня была полна звуков. Возле школы дети играли в прятки, кричали и весело смеялись. Потом, должно быть, мальчика обидели, и он громко заплакал:
— Я ма-а-аме скажу-у!
Призывно мычали недоеные коровы; их хозяйки, видно, задержались на огородах. На колхозном дворе жалобно ржал жеребенок: кобыл погнали в ночное, а молодняк оставили — боялись волков. Голосисто, так что далеко в лугах отзывалось эхо, гоготали гуси. Звенел молодой девичий смех, радостный и манящий. А охрипший женский голос сердито звал:
— Федя, а Федя! Сколько я тебя просить буду! Ну, поганый мальчишка, не показывайся домой! Я тебе задам!
Забренчала и смолкла балалайка. В кустах у речки уже пробовал свой скрипучий голос деркач и заводили нестройный концерт лягушки. Где-то возле Добродеевки запели девчата. Этот далекий напев всколыхнул Машу, вывел из задумчивости. «Поют… Это Настино звено с поля возвращается. С прополки. Уже с прополки…»
Маша оторвалась от стены, потерла ладонями колени ноющих от усталости ног, вздохнула, и мысли поплыли, как всегда, стремительные, напряженные.
Ох! До чего же это тяжелое дело — быть бригадиром! Весь день на ногах, от темна до темна. А результаты… В «Воле» уже полоть начали, а у нас… У нас ещё ранние не посеяны, а сколько картофеля, проса, овощей… Правда, в её бригаде дела значительно лучше, чем в других. Но разве может вытянуть весь колхоз одна её бригада? Да не так уж они хороши — и её дела. Разве можно сравнить с «Волей»? Там уже давно кончили сев… Уже всюду дружные всходы. А весна вон какая — сухая, ни одного дождя. В поле не продохнешь от пыли, на пригорках ветры выдувают землю, и зерно лежит на поверхности, сохнет и не прорастает. В такую весну на какие-нибудь два дня поздней посеешь — и на два центнера меньше снимешь. Но почему они так отстают? В чем причина? Она знала: причин много, общих для всех, о них пишут в газетах, говорят на собраниях. И она не хотела о них думать. Её интересовал один вопрос, и она каждый раз после таких размышлений снова возвращалась к нему. В чем сила Василя? Почему в «Воле» такой порядок, такая организованность, такой, как говорит Алеся, ритм в работе?.. Раньше, при Шаройке, она на этот вопрос отвечала просто: сила эта в том, что председатель душой болеет о колхозном хозяйстве, а не думает о собственной наживе, как Шаройка.
Но Максима нельзя упрекнуть, что он не заботится о колхозном добре, а думает о своем. Маша убеждена, что он не меньше Василя хочет сделать свой колхоз передовым. В самом деле, он прямо-таки, как говорится, горит на работе, особенно после того открытого партийного собрания. Так почему же его хорошие намерения не приводят к таким же хорошим результатам?
Ей очень хотелось, махнув рукой на бабьи пересуды, сходить к Василю, расспросить обо всем, по-дружески посоветоваться, побывать на совещаниях, на заседаниях правления, походить с ним по полям. Ей казалось, что, если б она выяснила, в чем секрет, она нашла бы способ передать его Максиму и заставила бы его вести дело так, как ведет Лазовенка.
Она в душе сердилась на Василя за то, что тот в последнее время редко наведывается, не интересуется делами их колхоза.
«А ещё член райкома».
Она не знала о крупном разговоре, который произошел между ним и Максимом, когда тот после всех своих заверений все-таки снял людей со строительства гидростанции.
А тут ещё болезнь Игната Андреевича…
«Нет, нет! Больше так нельзя! Надо что-то делать. Районные представители нас забывают, относят к числу «крепких середняков». А на деле середина эта совсем ненадежная…»
На той стороне улицы послышались голоса. Маша узнала Максима и Шаройку. Через минуту у дома Шаройки скрипнула калитка и сонно отозвалась собака.
У Маши неприятно, больно сжалось сердце.
«Вот она — причина. Опять повел, чтоб напоить… Поль зуется его слабостью… Хочет доказать, что выше поднять колхоз нельзя, чем поднял он — Шаройка. Как Максим не понимает. Как можно не понимать!..»
Сгущалась тьма. В небе загорались звезды. Деревня постепенно затихала. Только неподалеку плакал мальчуган, должно быть тот самый Федя, которому здорово попало от матери за то, что долго не шел домой. За хатой в хлеву пережевывала жвачку и тяжело вздыхала корова. Маша ласково подумала: «Трудно тебе? А ты скорей телись. Тебе будет легче и нам хорошо. А то мы всю весну постничаем».
Мимо хаты прошла женщина. Миновав крыльцо, остановилась, стала вглядываться.
— Ты, Маша?
Маша узнала голос, вздрогнула.
— Я.
Сынклета Лукинична поднялась на крыльцо, присела рядом.
— Одна сидишь? — И, должно быть, почувствовав неловкость своего вопроса, поправилась — спросила ласково и сердечно: — Заморилась? — и положила руку на плечо, обняла.
От этой сдержанной ласки Маше стало себя жалко, под горло подкатился соленый комок.
— Устала, — откровенно призналась она и, помолчав, добавила — Устала, тетя Сынклета. Бегаешь, бегаешь…
— А я по тебе соскучилась. Давно уже мы не сидели вот так с тобой, не беседовали, как прежде… Помнишь?.. Каждый день вижу и все издалека. И обидно мне… Почему это ты меня обходишь, на работу не зовешь. Неужто я в коллективе лишняя стала? Или, может, думаешь — работать разучилась?
— Ну что вы, тетя Сыля! Я думала, вам возле своей хаты дела хватает. Нам вот всем колхозом построили, а вы сами… Надо и присмотреть, и рабочих накормить…
— Да нет их сейчас, рабочих… Ведь он же, как только снял людей со станции, так и со своей хаты разогнал всех — и своих колхозников, и свата Егора из Ясокорей. «Не хочу, говорит, чтобы пальцами тыкали». — Она замолчала и, вздохнув, сказала — И ему тяжело, Машечка. Не знаю, когда и спит. Бегает день и ночь. Злой.
— А толку мало.
Сынклета Лукинична долго молчала. Ей было больно за сына; только она, мать, знала, как он работает, как принимает все близко к сердцу. Но и Машу обидеть ей не хотелось, и, подумав, она кротко согласилась:
— Маловато. Но не все же сразу, Машенька…
— Сейчас опять пошел к Шаройке…
Плечи матери дрогнули, как от холодного прикосновения.
— Дружка нашел, советчика… Пока он не перестанет слушать Шаройку, толку не будет.
Сынклета Лукинична минуту помолчала, потом тоже вдруг заговорила суровым тоном:
— А я, Маша, и тебя виню. Ну, пробежала между вами кошка. Я знаю, что он виноват… Молодой, горячий… Но ведь ты девушка. Неужто не можешь простить? Ты же знаешь, он гордый, и сам теперь, может, никогда не заговорит…
— Он гордый, а я, по-вашему, не гордая? Нет, тетя Сынклета, я тоже гордая: просить не пойду, — сказала она и сама испугалась своих слов.
Сынклета Лукинична вздохнула и сняла руку с плеча девушки.
— Гордости у вас у всех много, а вот ума иной раз не хватает.
— Вы на меня не обижайтесь, тетя Сыля. Я с вами, как с родной матерью…
На руку Маше упала горячая материнская слеза, но девушке почудилось, что не на руку, а на сердце упала она — так больно оно сжалось. Хотелось чем-нибудь утешить старушку, но не находилось нужных слов. И они долго сидели молча, прижавшись друг к другу.