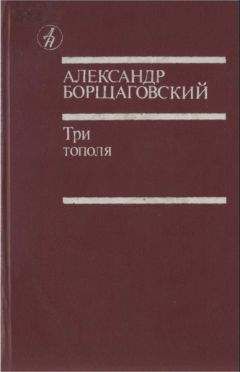— Привык Хворостин демократию нарушать, — сказал Николай. — Без правления такого дела не решить. И так мы третий год без бани.
Мальчик рассмеялся:
— А у нас своя баня! В Бабине у каждого банька, а в Кожухове все грязные ходят: того и гляди, клопы в заду заведутся, — повторил он привычный бабинский выпад против кожуховских.
— Гордости у вас и на копейку нет! — Николай отодвинул от себя тарелку, пустой стакан и приготовился встать, распрощаться: теперь ему рвать надо, сразу рвать, не то пропадет, запутается между двух изб. — Патриотизма своего не имеете.
— Кончается Бабино, — невесело согласилась Люба. Она чуяла, что крылось за привычными, словно бы связанными движениями Николая, хотя, казалось, и не смотрела на него. Она любила его безотчетной бабьей любовью, но угадывала в нем и то, что только мать может угадать в сыне. В грусти ее низкий голос звучал певуче, красиво. — Размывает нас жизнь, как вешняя вода снег. Расползется Бабино по лесу, и не сразу, — сразу бы легче, — расселятся, кто в леспромхоз, кто куда, по лесничествам, по кордонам… На посадках работают, желуди для питомника собирают. Тоже дело… — Она усмехнулась. — Заработки.
— А деревня?
— Не будет. И кино не будет.
— Значит, согласие дала? — Николай поднялся, встала и Люба.
— Нет. — Она посмотрела в окно, но увидела только темную слюду стекол, отсветы лампы, неясный отпечаток стола и людей. — Я из Бабина последняя уйду. Может, один Серафим пересидит меня. Он сегодняшнее лето сам пришел с готовыми наличниками, видал? — Николай кивнул. — Принес и говорит: «Это тебе, Люба, за красивые глаза, мне их леший помогал резать, околдованные они, от них не уйдешь и никуда не уедешь, хоть из самой Москвы за тобой „Волгу“ пришлют». Станут за мной «Волгу» слать, бензин тратить! — она рассмеялась. — Так что твоему Хворостину не светит.
И снова Люба сама, своей охотой, освобождала Николая от душевной тяжести, от необходимости действовать, снова она была влекущая, доступная, а его присутствие в этой избе никак не пересекалось с жизнью другой женщины, которая спит на высоком берегу Оки и горя не знает. Николай ответно улыбнулся, размял плечи и сказал облегченно:
— Хворостин много на себя берет, привык, что люди молчат, а то нарвался бы.
— Я четыре класса окончу, — упавшим голосом сказал Степан, — все равно уедем. — Он уже стоял у двери, в валенках и пальто, помогал старухе влезть в старую долгополую овчину. — В интернат уеду.
— Никуда ты без меня не уедешь. Вместе решать будем, — сказала Люба серьезно, оглядывая мать и сына, хорошо ли они оделись, чтобы идти на другой конец Бабина, к Любиной тетке.
— Ты ему грибов не забудь, собери, — твердила напоследок старуха, тыча рукой в сторону печи. — Даст бог, в один котел попадут… Сегодняшний год они не червивые, один в один.
— Ехать, что ли?.. — с ленивой раздумчивостью сказал Николай, когда старуха с внуком сошли с крыльца и шаги их затихли.
— Нет! Не езди! — Люба встрепенулась, бросилась к нему, загораживая путь. — Не скоро ведь увидимся, а может, никогда.
— Чего там — никогда. Рядом живем, по-соседски. — Нехорошая, неуместная улыбка тронула рот Николая; даже выпивший, он устыдился ее и, верно сам того не понимая, выразил ее в столь же обидных для Любы словах: — Ну, быть по-твоему, отдохну зимы ради.
Погляжу, каково оно тут при новых наличниках: может, и жизнь новая?
Стаскивая сапоги, он опасливо посмотрел ка Любу, но лица ее не увидел; повернувшись к нему спиной, она разбирала постель.
4
Сон не шел к Николаю. Рядом, сдерживая дыхание, лежала Люба, а может, он и услыхал бы ее, если бы не в голос ревущий ветер, ломившийся в дверь, и в окно, и в прохудившуюся кровлю. Глаз угадывал мутноватый безликий квадрат окна, но в избе от этого не становилось светлее.
Нежное, благодарное чувство к Любе, которое только что наполняло Николая, уходило, обнажая трезвую, обидную даже мысль, что хоть он и женатый человек, а Люба навсегда останется в нем, и долгие годы его будет донимать ощущение утраты. Это будило какое-то злорадное чувство, что нечего ей выше своего пупа прыгать, она принадлежит несчастному Бабину, пусть и делит его судьбу.
— И ты не спишь? — спросил Николай.
— Зимой только и дела, что спать. Отосплюсь.
— Вам хорошо зимой, а нам хуже.
— Нам круглый год хорошо…
— А что? А что, на самом деле! — рассердился Николай. — Вам неплохо, жизни вы своей не понимаете.
— Я прошлой зимой думала, мы с тобой жить будем, — сказала Люба спокойно, без боли.
— Как муж и жена?
— Да.
— Ополоумела, что ли? Не с того мы, Люба, начали, чтоб под венец идти.
— При любви с чего ни начни, все к доброму.
Николай представил себе, как он уедет в Кожухово, а Люба останется одна в широкой, беззвучной кровати, в темной, заметно холодеющей избе.
Он рассмеялся щедрым, глуповатым смехом.
— Если бы, как у иных народов, по две жены разрешалось, другое дело. Увезла бы тебя чагравая в Кожухово.
— Я бы второй не пошла.
— Побежала бы!
— Нет, — спокойно сказала Люба, будто она уже обдумала и такую возможность.
— Бегом бежала бы, — шутливо настаивал Николай. — Ведь вот позвала!
— Это я своей волей. Сама захотела. А попади я к тебе в дом женой, одну меня и любил бы. Другой бабе слезы отлились бы.
— Много об себе думаете!
— Одну меня, — упорствовала Люба.
— Отчего же я тебя первой не взял?
— Потому что слабаки вы, мужики. Всего вы боитесь: кто как посмотрит, кто чего скажет. — Она вздохнула. — Ты меня, сколько бывал здесь, ни разу и не погладил.
— Это зачем? Жалею — и все. Ты ж не телка, чего тебя оглаживать.
Люба минуту полежала молча, потом сказала тихо:
— Видела я ее. В лесу. Она с бабами грибы собирала.
— Подглядывала!
— Так вышло. Бабы белые грибы берут, а она все козлят да козлят, их легче брать, в сосняке ими вся земля утыкана.
— Я попросил, — соврал Николай. — Я козлята соленые больше всего люблю.
— Научится. Красивая.
— Ничего… — сказал он неопределенно.
— Быстрая, сноровистая.
— Жадная! — Николай рассмеялся.
— Тебе в пару.
— А чем же я жадный? Чем? Скажи на милость! — Люба молчала, он повернулся к ней в темноте, нашел ее плечи, грубо стиснул их и почувствовал, что не может противиться ей, противиться желанию. — Ну чем? Чего молчишь? Жадный. Жадный… Это я до тебя жадный… а так хоть в монахи иди… Люба! Люба!..
Вроде поутихло на дворе, а может, шумный ток крови в голове Николая приглушал посторонние звуки. Посветлело окно, но не серым рассветным, а лунным лесным светом. До зари — вечность, до зари Николай вернется домой и завалится спать, чтобы раньше полудня и не показать жене виноватых глаз.
— Степка с Серафимом сдружился, — сказала Люба после долгого молчания. — Бегает к нему, плотничать помогает. Толкуют часами, как ровня.
— Блажной он, лысарик.
— Степка говорит, у Серафима план есть — все Бабино деревянными кружевами одеть: наличники, карнизы, коньки над кровлями, балясины для крылец выточить… Чтоб ездили к нам отовсюду люди.
Николай хмыкнул презрительно, недоверчиво.
— Он может, — сказала Люба. — У нас полсотни изб и осталось.
— А платить кто будет? Не всем же за красивые глаза!
— Всем задаром: как лес родит, само собой.
— Ну и блажной! — удивился Николай. — Он же главный принцип нарушает — материальной заинтересованности. Испортит он тебе сына, Люба, дерьмом башку набьет.
— Серафим не испортит, — убежденно сказала она. — Он добру научит.
— Шла бы ты за Серафима: очень вы один к другому подходите!
Люба задержала дыхание, потом сказала, будто рядом с ней находился посторонний, не породнившийся с нею кровно человек:
— Я пошла бы.
— Концы! Концы! — крикнул, юродствуя, Николай. — Я вас и сосватаю.
— И Степка от него научился, закричит вдруг: концы! концы! — и все подбородок оглаживает… Не нужно нам сватов.
— Что же вам помеха? — Николай раздражался все больше. Вот она какая: за любым побежит! Оттого, видно, и не дорожат ею мужики, что чуют ее натуру, не ценят легкой добычи. И уже в собственном сердце он перед нею не был ни в чем виноват и, как никогда, верил в то, что Любе самое место в Бабине. — Шла бы за него!
— Серафиму это не надо, — сказала Люба. — Он меня на тридцать лет старше, жизнь без бабы прожил, неможется ему уже.
— Пустяк дело! — Николай встал, прошел по стылому полу к разбросанной на стульях одежде. — Я бы при тебе и наперед состоял, в отхожих промыслах.
— Нет, Коля, вышла бы замуж, и все. Никогда я в грязи не была.
— Вот ты как! — окончательно обиделся Николай. — Ты беспорочная, а я в грязи, я от жены в чужую избу.