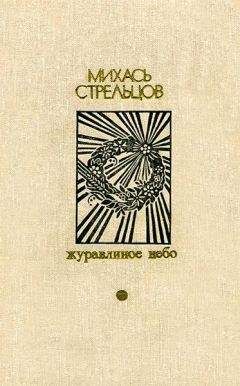— Ты не говори, дядька Матей, в деревне, что я хотел… дрова твои забрать. Ну, не говори…
Матей отозвался не сразу:
— Можно и помолчать, чего же… Только я тебе скажу: ты свои штучки брось. Среди людей живешь — не в лесу…
В дороге их застали сумерки. Смеркалось и на дороге, а в зарослях и вовсе была темень. И мороз опять стал пощипывать. Небо на западе было в холодных розовых разводах.
Вскоре выехали из леса и поднялись на бугор. На колдобистом его верху сани съехали в сторону: сразу начинался спуск. Внизу дорога упиралась в небольшой мостик через ручей, за мостиком начиналась улица. Возле крайней хаты стояла машина, и мотор, еще не приглушенный, тарахтел. Машину обступили люди, послышались голоса. Ветер выдул из чьей-то сигаретки яркие густые искры, а потом подхватил их и развеял.
Хмыль в который раз посмотрел вперед, остановил коня:
— Дядька Матей, что дальше делать?.. Догадаться могут…
— А, вот оно что, — с усмешкой обошел Хмыля Матей, стал у воза. — Совесть заговорила, людям в глаза стыдно глядеть? А ты по-другому… Чего стоишь? Напрямик иди, за заборами прячься, если по-человечески ходить не умеешь. Там ни одной души нет, одни следы собачьи… Давай сюда вожжи.
Хмыль сгорбился, соступил с дороги. Матей бочком подсел на дрова, повел вожжами. Конек затрусил с бугра, и опять стало заносить сани. «Ого, так и перевернуться можно!» Натянул одну вожжу, крикнул Хмылю:
— Коня сам отведу, слышишь? Конь колхозный: отнимать не придешь!
Хмыль не отозвался. Сани легко катились с горы. Перед мостками Матей оглянулся. Хмыль все стоял на бугре, наверное размышляя, идти ему улицей или вдоль заборов, прячась от чужих глаз. «Думай, думай, — усмехнулся Матей, — давно пора». И поехал на голоса, которые слышались возле машины…
РАЗДУМЬЕ
(Перевод Эд. Корпачева)
Кукушки прежних лет прокуковали
бор головы моей…
Р. Бородулин
Тревога и боязнь закрадываются в душу — почему-то все чаще вспоминается детство. Почему, зачем? И отчего именно теперь? И так хорошо, живо встают в памяти прежние дни, радостные и грустные, и так жаль, как только подумаешь о них, что не вернутся уже ни прежняя радость, ни прежняя грусть. А ведь они так нужны мне теперь: зачем мне, чтобы повзрослевшая радость стала умиротворенностью, а грусть — печалью?
Тревога и боязнь закрадываются в душу — неужели так начинается пора зрелости?
Было ведь и прежде у меня то же детство, и ведь прежде вспоминал о нем, но мне было так хорошо в моем постепенно отдаляющемся детстве, так привычно и хорошо, как привычно и хорошо реке в берегах, а ветвям — в кроне. Почему же река выходит из берегов и потом тоскует по ним? Почему же дерево высоко вверх возносит свои лиственные шатры, почему тоскует по грибным затишьям росистой земли?
Может, вот так и со мною: и жаль, жаль уже детства, и тревожно, боязно в пору молодой зрелости.
ОДИН ЛАПОТЬ, ОДИН ЧУНЬ
(Перевод Эд. Корпачева)
ПОВЕСТЬ
Сон.
Сон.
Сон.
Ночью пустынной
и темной
Иду по земле.
Высокий и легкий,
Покачиваюсь от печали.
Голову склоняя под
небом,
Я плачу.
Звезды — слезы мои.
Спят города и села,
Я над ними ступаю.
Высокий, согбенный
и легкий,
Покачиваюсь от печали.
Ищу деревеньку серую,
Деревеньку свою.
Боюсь:
Высокий и легкий,
Не присяду там на пороге,
Как самолет реактивный не сядет
На грунтовом аэродроме…
Я плачу.
Звезды — слезы мои.
…Вдруг от холода защекотало спину: над козырьком погреба мглисто взвился снег и колко лег на глаза; потом порыв ветра утих — слышно было, как сползал он с шорохом по стене и опадал книзу. Снежная пыль таяла на ресницах и на щеках, и становилось тепло.
На разрытом у погреба сугробе тоже был козырек, крахмально-белый и легкий, как облачко или гусиное перо, и нереальный, призрачный в своей белизне. Поземка стеклянно шуршала по сугробу, прозрачным дымом расползаясь за огород, в поле.
Он вобрал голову в плечи, не замечая того, что неприятно студено касался щеки обледенелый шнурок ушанки, и смотрел, смотрел…
Птицы летели на раскидистую дикую яблоню, росшую на огороде Пилипа, летели с подветренной стороны и потому снижались над погребком, но не сели, опять полетели в поле и зашли на второй круг; воробьи неслись тугой чередкой, под ними, ниже, неслась синичка; и тяжело, как бомбовоз, стремилась вслед за ними, тенькая на лету и отставая, ошалелая овсянка.
Он пожалел в ту минуту о том, что у него порвалась рогатка.
Достал ее через дырявый карман из-за подкладки домотканой свитки и разглядывал, дергая за конец оторванной резинки, оторванной уже вторично. В тот первый раз он надточил ее конец не очень податливым кусочком, вырезанным из противогаза. Надточил, пережав концы тонкой медной проволокой, а не суровой ниткой, как полагалось, и вот проволока врезалась в резинку, переела ее. Но к чему теперь жалеть об этом? Все равно нет никаких «боеприпасов» к рогатке. Летом сколько хочешь камешков можно насобирать, а теперь вот разве кирпич расколешь, да только слишком легки они, осколки кирпича, пустишь из рогатки — летят с каким-то фырканьем.
У него одеревенели руки, и он стал дышать на них, не выпуская рогатки, и остро пахла резинка, тоже остывшая, и совсем по-иному, приглушенно — сиротским; что ли, запахом — пахла истертая кожица, в которой, как в мешочке, прятал камешек, перед тем как посылать его в далекий полет, и уж вовсе иным, тонким, даже слегка сладковатым, таким понятным, добрым запахом веяло от черенка рогатки, до лакового блеска выглаженного ладонью и согретого ею.
Над селом, в поле была печальная дымка, была припрятана, казалось, и неуловимая и непонятная грусть, как настрой то притихшего и прикинувшегося белым, то бойкого, отчаянно-веселого, искристого и все равно темного, темного ветра. А этого и словами нельзя было высказать: стоя над погребом, он видел себя светло-желтой соломинкой, торчащей из стрехи, — она дрожала, поигрывала на ветру, тосковала и разбойничала вместе с ветром; ветер измотал ее, но и любил ее ветер, и она любила его и боялась и не боялась его озорства.
Птицы снова летели к дикой яблоне, снова снижались и делали круг; воробьи с лопотом крыльев вспорхнули на дерево едва ли не от самой земли, а вот овсянка отстала, тяжело полетела под стреху Пилипчикового погреба. Синички не было с ними.
Он сунул в карман рогатку, почувствовал, как у него ослаб под шапкой, сполз на затылок платочек, и туже завязал его под подбородком, глубже насунул на голову шапку. Руки он спрятал в рукава свитки: уже давненько стоял на дворе и остыл. Холодно ему было, наверное, еще и потому, что недавно поиздевались над ним, дразнили его, собравшись в Авдулиной хате, старшие хлопцы, а больше всех Авдулин Павлик. И он, Иванка, плакал.
От обиды еще и теперь было горько и сухо во рту, и когда он дышал в полную грудь, что-то хрипело там и внутри делалось неприятно-сладко, тоскливо. Он чувствовал, что тяжестью набрякли веки, что под глазами остыло, но остыло совсем не так, как на лице, и еще чувствовал он, что кожа на щеках стала натянутой и словно бы тонкой и припухли губы.
И его начинало уже знобить.
Сколько горя, страдания и слез принес ему криворотый Авдулин Павлик, по прозвищу Тявлик, которому в прошлом году капсюлем от гранаты порвало щеку, которого боялись не только младшие, но и однолетки, потому что Тявлик любил орать на всех, огрызался взрослым, лез на каждого, как жаба на кочку. Был он мал ростом, костистый, зеленый с лица, весь в свою мать, и так же, как мать, не выпуская изо рта, дымил цигаркой и так же кашлял. Мать его все в деревне называли солдатом, потому что и ходила и говорила она по-мужски и по-мужски управлялась с косою и топорами, — взяла да и поставила сама новую хату на пепелище.
Тявлик еще до войны ходил в четвертый класс, и опять пошел в четвертый, как только открылась в позапрошлом году школа. В пятый класс его не перевели, оставили на второй год, и, может, поэтому Тявлик стал теперь совсем несносен и, может, поэтому не рос. Где уж тут вырастешь, если все кости полны злости. Так сказал о нем дед.
И зачем было идти сегодня к этому Тявлику? Он бы и не пошел, имей он какое-нибудь занятие на улице или повстречай кого-либо из приятелей, да все дружки-приятели сидели в хатах и грелись на печи. Да и нечего делать на улице: прошлой ночью столько снегу насыпало, что и шага в сторону от дороги ступить нельзя, не то что проехать с коньком на ноге по деревне из конца в конец. Хлопцам хорошо, им и на печи можно посидеть, они и так каждый день на улице, а ему осточертела эта печь — сиди да сиди, потому что истоптались лапти, а новых нет. Если бы у деда была пенька, давно бы сплел веревочные. Он уже было начал плести, но хватило веревочек лишь на один. Дед велел потерпеть, пока он придумает что-нибудь, и не может быть, чтобы не придумал. Дед засмеялся и весело так сказал: «Один лапоть, другой — чунь, хоть ты дома не ночуй», — и даже ногой притопнул, будто в пляс пускаясь, но потом сразу стал поругивать мамку и помрачнел. А недавно приходил батин дед (он живет в другом конце деревни), узнал, что у Иванки нет обувки, и все поминал господа бога, стоя у двери. А мамкины дед и бабка и сама мамка упрашивали его хоть немного посидеть у стола на лавке, но он отказывался: не было времени, говорил, — как всегда, у него не было времени. Ему лишь у Ганны, дочери своей, есть время посидеть. И Трофимиха его оттуда не вылезает, задами огородов тайно ходит туда и в корзине что-то носит. Мамка говорит, что до воины они у этого деда жили, а как пошел отец на войну, перебрались к деду Михалке. И он, Иванка, будто бы уже тогда был, когда у того деда жили, да вот не помнит ничего. Мамка говорит, что они уже никогда не пойдут к деду Трофиму жить, потому что убили папку на войне, — кому они там нужны теперь. Трофимихе и тогда, при отце, не угодить было, а теперь она и совсем чужая. Она и деда Трофима подбивает против них. Как только дали за папку пенсию, послала деда судиться, чтобы половину пенсии себе забрал. Дед и послушался бы, наверное, если бы ихняя Ганна не заступилась за маму. Трофимиха побаивается тетки Ганны.