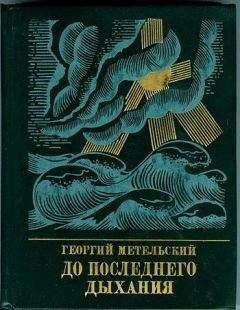class="p1">— Что же тебе рассказывали, Боря? — Галка посмотрела мне в глаза, и я выдержал ее взгляд, потому что говорил правду.
— Этот напарник надругался над девочкой, а потом задушил ее. За это его казнили. Тот человек казнил. Сам… — Я облизнул сухие губы. — Это не очень трудно, если видишь мертвую девочку с набитым землей ртом…
— Перестань… Тебе нельзя волноваться.
— Теперь мне все можно… Он пхнул его ногой в живот, как последнюю гадину, и эта последняя гадина еще успела ухватиться за поручень и висела так, ругаясь и крича о помощи. Но тот, который бежал…
— Не надо больше, Боря…
— Хорошо, не буду… Тот, который бежал с ним из заключения, ударил его еще раз, и пальцы разжались. И он упал под колеса поезда. Вот и все, Галя. Ты меня слышала?
Шеф ушел поздно вечером, ночью не так мучают комары и не так печет солнце.
Весь этот день я следил за солнцем. Через брезент палатки виднелся как бы его отпечаток — иссеченное в клеточку, размытое по краям пятно. Из большого и золотистого днем, оно к вечеру изменило размеры и цвет, стало крупным и малиновым.
В моем положении мне, пожалуй, надо было бы подумать о прожитой жизни, о том, что я не сделал ничего путного за свои двадцать восемь лет, но вместо этого в голову лезло солнце, какое и когда оно бывает в разные времена суток и при разной погоде. Сейчас мне представилось, как на грани вечера и утра оно словно катится по самому краю тундры, не опуская нижний край за горизонт и не приподнимая его над ним. Так продолжается несколько минут, до того неуловимого мгновения, когда плавно, без всякого усилия его огромный, красный диск оторвется от земли и начнет в бесконечный раз повторять свой путь по небу…
Ночью Ром очнулся.
Я ему сказал, что шеф пошел к буровикам, чтобы вызвать самолет.
— Дьявол… с самолетом, — сказал Ром через силу. — Если прилетит, отправят в больницу и отрежут… А что делать без ноги геологу?.. Лучше так…
— Подумаешь, нога! — Я даже усмехнулся, пускай он считает, что нога действительно сущий пустяк. — Вот если голову отрежут, тогда верно делать нечего. А без ноги можно жить и жить.
— Это… так… кажется…
Потом Ром снова забредил, начал бормотать всякую чепуху про свою ногу, вроде того, что если б перелом был ниже колена, он бы согласился, а так не согласен. Я повернулся и положил ладонь на его лоб, но Ром смахнул мою руку своей и начал ругаться и выгонять из палаты хирурга. Глаза у него были бессмысленно вытаращены, но он не откликался, когда я его звал, а потом затих и только скрипел зубами, и стонал коротко и глухо.
Я видел такое раньше и знал, как это называется, и знал, чем кончится это, если сразу не отрежут ногу. Но здесь никто не мог заняться таким делом, а до самолета, даже если шеф успеет в срок дойти до буровиков, останется еще четыре дня.
Если б в таком положении был один Ром, я бы, пожалуй, признался Галке, что зашвырнул лампу в кусты, придумал бы какую-либо сказку, зачем и как это сделал. Все-таки Роман попал в переплет из-за меня, и я должен чем-то отблагодарить его, хотя бы ценой собственного унижения. Но, кроме Рома, я тоже лежал в полузабытьи и тоже бредил по ночам, и Галка могла подумать, что я просто спасаю собственную шкуру, а такое не укладывалось в мой моральный кодекс: я не мог допустить, чтобы настоящие люди подумали обо мне так плохо.
А раз так…
— Не делай глупостей, Борис, — перебил я сам себя молча. — Тебе нельзя шевелиться, если ты хочешь жить.
— А на какой дьявол тебе такая жизнь? — ответил я сам себе тоже молча. — Может быть, как раз все к лучшему, может быть, останутся хотя бы четыре души, которые не скажут, что ты сволочь и негодяй.
— Нет, останутся не четыре, а три. Ром умрет, и останется всего трое — Галка, шеф и чудак Филипп Сергеевич с бородой лопатой.
— Ты это всерьез думаешь, что Ром умрет, если не будет завтра самолета?
— Что думать! Я знаю… Я знаю, как это называется и что ждет Рома…
— Значит, надо ползти…
— Не делай глупостей, Борис! Последний раз говорю — не делай глупостей!
— Отстань, дурак!
— От дурака слышу!
Я вытолкнул себя из палатки ногами вперед, потом перевернулся на живот и медленно пополз в сторону погребка. Вода сразу же пропитала одежду, и по ней, как по промокашке, что-то острое и холодное растеклось по телу.
Несколько месяцев назад, когда мы готовились бежать, Ванька Дылда научил меня двигаться по-пластунски, и я с благодарностью вспомнил его теперь, когда выбирал проходы между кочками, казавшимися горами, если на них смотреть с уровня земли.
Сердце мое ревело, как мотор трехтонки, буксующей на подъеме в весеннюю распутицу. Через каждые десять подтягиваний я давал ему передышку и неподвижно лежал несколько минут, глотая ртом тяжелый, душный воздух, как глотают воду.
Мне нужно было во что бы то ни стало доползти до тальниковых зарослей, и не только доползти, но и найти лампу шесть пэ три эс и не только найти лампу, но и вернуться в палатку, и положить лампу в ящик, и сказать Галке, чтобы она еще раз посмотрела, на месте ли лампа, потому что, если я не смогу сказать ей этого, тогда грош цена всем моим мукам и моей смерти, если она за ними последует.
Иногда я приподнимался на локтях, чтобы определить, правильно ли я ползу, но боль снова пригибала меня к земле, переворачивала и корчила, пока я, приладившись, не находил такое положение, когда она становилась тупее, и тогда я снова выпрямлялся и полз.
Отдыхая, я старался как можно точнее припомнить, куда полетела лампа. Я до мелочей представил себе то проклятое утро, как я взял из погребка сгущенку, и как напоролся животом на острый цоколь, и как, разозлившись, бросил, не целясь, эту шесть пэ три эс в заросли тальника… Я отчетливо увидел несложную траекторию ее полета, чуть правее того места, где я тогда стоял. Ну да, впереди торчала засохшая, трухлявая лиственница, такая дряхлая, что ее нельзя было употребить даже на палку для палатки. Я твердо вспомнил, что не попал в нее, потому что не было слышно никакого стука и никакого звона, кроме мягкого шлепка стекла о мох.
Значит, надо добраться