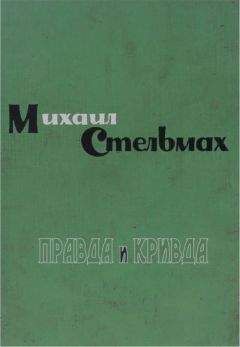И вот еще не просохшая бумажка дрожит в руках Поцилуйко и укрепляет, и увеличивает клубок жизни в его душе. Фортуна снова улыбнулась Поцилуйко, но зачем было при этом иметь свидетеля? Разве нельзя было на это время выпихнуть вдову хоть в каморку или в сени? Теперь ее взгляд больше смущал Поцилуйко, чем змеиные глаза начальника полиции.
Когда гитлеровцы съели все, что было на столе съедобного, и когда ежевичная водка пятнами вышла на широкощеком лице Крижака, он властным жестом руки вызвал Поцилуйко на улицу и на пороге тихо зашептал:
— Не поймите мое великодушие и мой добрый юмор, как мою слабость. Я пока что не заставляю вас работать с нами, потому что с вас еще не слезла шкура труса. Но если на хуторе появятся партизаны или подпольщики, вы сразу же должны будете об этом сообщить меня. Иначе с вами будет разговаривать гестапо, а оно вытянет со шкуры ваше мясо. До свидания, господин Поцилуйко.
— До свидания, — вздрогнул от остекленевшего взгляда полицая.
Как в плохом сне, мимо него прошли немцы, и он, как побитый пес, съежившись, пошел в дом. Вдова даже не взглянула на него. Но ее лицо, вся фигура и даже одежда встопорщилась против сомнительного нахлебника. Потрескавшимися, шершавыми руками она открыла все форточки и двери, чтобы из хаты выветрился дух проклятых чужаков.
Этой ночью они долго не могли уснуть. Она проклинала себя, что приютила слизняка и дурака, который еще до войны стал выродком. А он мучился, что его позор каплями масла всплыл на воду, и ругал своего, как оказалось, довольно опасного свидетеля. «Тоже какую-то идейность имеет! В постели должны заканчиваться все бабские идеи. Но эту ведьму, наверно, не привлечет и царская кровать. И как в ней уживается любовь к мертвому и жестокосердие к живому! Ох, Василина, Василина, много ты можешь принести горя, если клубок войны покатится назад».
С этой ночи он начал бояться нашей победы. В фальшивой душе мололся страшный помол фальшивой справочки.
А спустя недели три в полночный час к дому вдовы прибились новые гости — два партизана. Голодные, в изодранной одежде, плохо вооруженные, они совсем не были похожи на грозных народных мстителей. Василина узнала одного из них, начала собирать ужин. Партизаны сели за стол, пригласили и хозяйку посидеть с ними, а Поцилуйко пронизывали и измеряли нехорошими взглядами. После ужина оба подошли к нему, и старший, с полумесяцем бородки, насмешливо спросил:
— Так вы, гражданин Поцилуйко, всю войну собираетесь как пень, трухнуть в этом закутке? Не тяжеловаты ли для вас вдовьи харчи и сапожные заработки? Или, может, к «новой власти» перекинетесь? Ну, скажите что-то красненькое, как вы на трибуне, бывало, щебетали.
Но красноречие и сейчас покинуло Поцилуйко. Он что-то невыразительное промямлил, а партизан изумленно пожал плечами.
— Кумедия, и все! Каким был когда-то оратором, а теперь мамулой[25] стал. Неужели у вас язык закостенел? Или, может, душу заклинило? Я еще давно грешил на вас, что в лихой час вы станете если не предателем, то пень-колодой. А наш командир не верит в это. Что прикажете ему передать?
— Кто же ваш командир?
— Мироненко.
— Мироненко!? Тот самый?.. — неожиданно вырвались глупые слова.
— Тот самый, которому вы когда-то объявили политическое недоверие. И все равно он еще верит в вас, хоть и залили вы ему сала за шкуру. Я тоже охотно выпил бы мировую с вами, но я не такой доверчивый, как мой командир. Так что ему сказать?
— Я еще подумаю над этим вопросом, — пробубнил Поцилуйко. — Это сложный вопрос.
— Даже очень сложный! — насмешливо сказал партизан. — И долго будете думать?
— Подождите хоть немного.
— Что же, подождем, пока кое-кто всю войну просидит на хуторе. Спасибо, Василина, за хлеб-соль. Бывай здорова.
Мстители даже не взглянули на Поцилуйко и тихо выскользнули из хаты.
Не кровь, а пламя бухнуло тогда в мозги Поцилуйко. Слова партизана выжимали из него все соки. Страх омерзительно расползся по всему телу и морозил его отравляющим холодом. Вот и зашился ты, человече, в тихий закуток, а попал зразу между трех огней. Что, если завтра немцы или полиция узнают о партизанах? Одно упоминание о гестапо бросило его в дрожь, и он чуть не застонал.
— Чего вас так лихорадит? — удивилась Василина. — Это же не фашисты, а свои люди приходили.
— Да, да, свои люди, — ответил будто спросонок, а хищная мысль долбила свое: «И за этих людей гестапо освежует тебя, как зайца… А если и не попадешь в лапищи гестапо, свой суд доберется до тебя. Чего только этот свидетель в юбке не скажет о нем?» — шевельнулась ненависть к вдове.
Бессонная ночь гадюкой шевелилась в его душе, жалила, заглатывала ее, а в голове гудели и скрипели проклятые мельничные жернова. И днем он ходил как неприкаянный, с ужасом присматриваясь и прислушиваясь к лесным дорогам. И спать лег в одежде и сапогах. А на рассвете, не глядя на Василину, сказал, что пойдет посоветоваться в район к одному человеку. Пора, дескать, за живое дело браться, не вечно же быть приемышем.
— И то правда, — сразу согласилась вдова. — Только будьте осторожны. Непременно справочку захватите с собой, что тот чертов баламут оставил. Как раз теперь будет полезной. Я вам что-то поесть приготовлю.
— Не надо.
— И не говорите такого, — вдова бросилась к амбару, а он тупо посмотрел на ее тугие ноги, которые розовели из-под широкой юбки, и вздохнул.
— Чего так вздыхаете? — из-за плеча глянула на него вдова, остановившись.
— Нелегко идти от вас, — потупил взор вниз.
— Благодарю на добром слове. А я, грешным делом, думала, что вы хуже. Теперь не удивительно растеряться, как вы растерялись. Но и это должно пройти, — она подошла к Поцилуйко, впервые доверчиво прижалась к нему, посмотрела в глаза и метнулась к амбару.
В это же утро с ее сумкой, с ее харчами Поцилуйко оказался у начальника украинской полиции и заявил, что Василина Вакуленко держит связь с партизанами.
— Хорошую имели любовницу, господин Поцилуйко! — так сказал о Василине, будто ее уже не было на свете. — За нее и вы бы могли потанцевать на веревке, — встал из-за стола Крижак. — Спасибо вам. Теперь, когда вы неофициально начали работать на нас, можете выбрать уже и официальную должность.
— Нет, — испуганно замахал руками и отшатнулся назад Поцилуйко.
— Как хотите. На принужденном коне не наработаешь, — снисходительно сказал Крижак. — Но рано или поздно придете к нам, потому что сегодня вы сожгли последний мост к тому берегу, — махнул рукой на стену позади себя.
Поцилуйко вздрогнул, его болезненное воображение нарисовало в темноте изуродованный мост в огне, а слова начальника холодными мурашками расползались по всему телу.
Ведь его, Поцилуйко, мысли не шли так далеко, как сейчас сказал начальник полиции. Думалось не о последнем мостике, не о двух берегах, не о двух мирах, а лишь об одной женщине в этом мире, которая может опозорить его. И он, трясясь за свой поступок, здесь, в кабинете начальника полиции, молча клялся, что больше никогда-никогда не заглянет сюда. Скорее бы только закончилась вся история с вдовой.
Широко без стука отворились двери, и на пороге кабинета остановился длиннорукий, придавленный сутулостью немец, тяжеловатая голова которого поражающе нависала над туловищем. В крупных морщинах его лица притаились тени и звериная жестокость. Но не фигура фашиста поразила Поцилуйко, даже не звериные черты лица, а страшный дух анатомички, мертвой крови, который шел от длиннорукого. Фашист бросил Крижаку несколько слов по-немецки, стрельнул глазами и вышел, а Поцилуйко чуть не вывернуло: ему до сих пор казалось, что перед ним стоял не человек или его подобие, а смерть в форме.
Крижак посмотрел на него, засмеялся:
— Стошнило?
— Стошнило. Кто это? — кивнул головой на двери.
— Дух нашего гестапо. Этот железом, огнем и пальцами, видели, какие они у него, выжмет из тела каждую каплю жизни. Смотрите, не попадитесь ему.
Рвота подступила к горлу, но Поцилуйко как-то победил себя, чтобы не рассердить начальство.
Вечером он вернулся на хутор, покружил вокруг дома вдовы и, будто не своими пальцами, постучал в окно. Скоро отворились двери, и из сеней повеяло духом осенней калины.
— Как ваши дела? — приветливо встретила его Василина.
— Будто ничего… Встретился с добрыми людьми, — ответил на удивление спокойно и, плотно поужинав, улегся спать.
Через два дня, когда Поцилуйко не было дома, полиция арестовала Василину. Хуторяне, как только он появился на хуторе, посоветовали ему подыскать другое укрытие, потому что черные вороны искали и его. Поцилуйко внимательно выслушал их и пошел к вдовьему жилью, чтобы взять что-то на дорогу. Не засвечивая лампу, он с кадки выбрал сало, с полки для посуды взял почерствевший хлеб и вышел в сени. И здесь привядшее благоухание калины на миг ошеломило его, потому что вспомнилось, как вдова приносила ягоды из лесу… Вот, несомненно, и все, что осталось от нее. Он в последний раз переступил порог остывшего дома, и враз навстречу ему из тьмы качнулась фигура Василины. Поцилуйко задрожал от ужаса, наволочка с харчами выскользнула из рук. Он спиной уперся в косяк, и одно слово стоном выхватилось из груди — ты!?