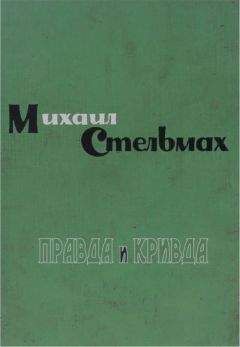— Как ваши дела? — приветливо встретила его Василина.
— Будто ничего… Встретился с добрыми людьми, — ответил на удивление спокойно и, плотно поужинав, улегся спать.
Через два дня, когда Поцилуйко не было дома, полиция арестовала Василину. Хуторяне, как только он появился на хуторе, посоветовали ему подыскать другое укрытие, потому что черные вороны искали и его. Поцилуйко внимательно выслушал их и пошел к вдовьему жилью, чтобы взять что-то на дорогу. Не засвечивая лампу, он с кадки выбрал сало, с полки для посуды взял почерствевший хлеб и вышел в сени. И здесь привядшее благоухание калины на миг ошеломило его, потому что вспомнилось, как вдова приносила ягоды из лесу… Вот, несомненно, и все, что осталось от нее. Он в последний раз переступил порог остывшего дома, и враз навстречу ему из тьмы качнулась фигура Василины. Поцилуйко задрожал от ужаса, наволочка с харчами выскользнула из рук. Он спиной уперся в косяк, и одно слово стоном выхватилось из груди — ты!?
Но никто не ответил ему. Только спустя какую-то минуту Поцилуйко понял, что навстречу ему подалась не Василина, а ее распятое платье, которое срывал с металлических прищепок осенний ветер. А какие металлические крючки распинали теперь саму Василину?..
Несколько лет прошло с того страшного времени. Поцилуйко избавился от опасного свидетеля, но не избавился от тревоги: а что, если Василина осталась жива и не сегодня-завтра вернется из какого-нибудь лагеря смерти? Правда, она, наверное, ничего не знает о том, кто отдал ее в руки полиции. Но может случиться так, что однажды схватят и Александра Крижака. А тот, спасая свою шкуру, начнет топить всех, кого можно утопить.
Страшная мука, взятая за первую фальшивую справку, до сих пор молола его душу. Об этом и сейчас напоминал мешок, лежащий за плечами. Если бы знал человек, что судьба готовит ему через какой-то промежуток времени, тогда бы десятой дорогой обошел сомнительные дорожки и имел бы такую чистую печать, как сердце ребенка.
Конь крушит и крушит копытами замерзшие лужи, брызгает из них водой, а память Поцилуйко брызгает тем, что навеки хотелось бы стереть, выжечь из тела. Если бы на свете, были такие огни… И он снова клянет войну, будто она виновата во всем, и снова, как сети, плетет и разбрасывает мысли, как ему по-настоящему ухватиться за ветви жизни, как вписать в свою биографию если не подвиги, то хотя бы такие поступки, которые могут вынести его на гребень. Разве же его ум не понадобится еще в каком-то деле? Разве его бывшие заслуги хотя бы сяк-так не залатают его растерянности в войну? Разве же не он первым из шкуры лез, разрушая хутора и те дома, что отдалялись от сел. Мороки тогда было с дядьками, а особенно с тетками: то у них не было древесины на новую постройку, а старая еще бы постояла, то новое место не нравилось, то еще что-то выдумывали. Тогда он собственной персоной сел на трактор и поехал к самым ярым. У него недолгий был разговор с ними — бечевой заарканил сруб, крикнул трактористу: «готово», трактор заурчал, напрягся, а хата, как живая, тронулась за ним, скособочилась, ойкнула и развалилась на груду дров. И в этом селе он снес не одно жилище. Правда, тогда кляли его бабы, как проклятого, даже в глаза придурком называли, но план был выполнен с опережением графика. Дядька только припеки, так он и черта сделает, не то что другую хату.
Поцилуйко оглянулся, будто должен был встретиться с прошлым. Но вокруг увидел только наросты землянок и расстегнутое, кое-где огражденное жердями мелкодворье. Около конюшни показалась человеческая фигура. Когда конь поравнялся с нею, она властным движением остановила его.
— Стой! Кто едет?
— Это я, товарищ Дыбенко! — узнал голос деда Евмена и невольно поморщился.
— Кто «я»? — недоверчиво спросил старик.
Поцилуйко соскочил с саней, подошел к старику.
— Добрый вечер, дед Евмен! Разве не узнаете?
— А чего бы я должен тебя узнавать? Показывай документы.
— Какие документы? — возмутился Поцилуйко. — Что с вами, дед?
— Не то, что с вами! — отрезал конюх.
— Неужели не узнали меня, Поцилуйко?
— Поцилуйко? Это того, что до войны был аж секретарем райисполкома?
— Того самого, — не уловил в голосе старика презрения.
— И того самого, который войну пересидел на харчах вдов и сирот?
— Как мог, так и пересиживал, — рассердился Поцилуйко. — Какое вам дело до меня?
— Даже большое, — старик проворно ощупал карманы Поцилуйко. — Оружия, значит, нет?
— Зачем оно вам? — пришел в себя Поцилуйко.
— Чтобы ты часом не стрельнул в старика. Кто же тебя знает, в какого черта ты превратился за войну… Ну-ка, показывай документы.
Поцилуйко зло полез в карман.
— Брони вам хватит?
— Брони? За какие же такие заслуги достал ее?
— Это уже не вашего ума дело.
— Глядите, каким вельможным стал! А не великоват ли у тебя довесок ловкости к уму?
Старик в одну руку взял броню, а второй повел коня к конюшне.
— Куда же вы, дед?
— Документы проверять.
— Я вам посвечу.
— Мне не надо чужого света. Ты уже раз посветил мне.
— Когда же это было?
— Забыл?
— Не помню.
— Ой, врешь, обманщик. А кто мой дом в труху раструсил, не помнишь?
— На то была директива.
— Директива была советская, чтобы людей не обижать, а разрушал ты, как фашист, плюя на людей.
— Я вам таких слов во веки веков не забуду.
— И на меня донос напишешь? — оживился старик. — Напиши, напиши! Бумага все стерпит. А люди не захотят таких свиней терпеть, хотя они и успели броней запастись от войны. От людей никто не выдаст тебе брони.
— Недаром вас элементом называют.
— И таки называют. А на деле элементами выходят такие, как ты.
— Все своей мелкособственнической хаты не можете забыть?
— Вижу, ты как был дураком, так им и остался. Не хаты, а издевательства не могу забыть! Тогда же у меня ни деревца на поленнице, ни копейки за душой не было. Старуха моя только одного просила: проститься с хатой — хотела побелить ее, одеть насмерть, как одевают человека, потому что в том доме мы век прожили. А ты и этого не позволил. Так кто же тебя мог руководителем назначить?
— Нашлись такие, что не имели времени совещаться с вами.
— Теперь, надеюсь, будут совещаться. А мы уже, поломав хребет фашизму, поломаем и броню таких выскребков.
— Бге, так вам и дадут демократию в обе руки! Надейтесь…
На перепалку с конюшни вышли конюхи.
— Ребята, к нам Поцилуйко с броней заехал! — обратился к ним дед Евмен.
— С какой Броней? С новой женой или полюбовницей?
— Вот жеребец! — кто-то возмутился в темноте.
— Да нет, не с Броней, — потряс дед Евмен книжечкой, — ас этой бумажкой, которая освобождает Поцилуйко от войны, от армии, от людей, отгородила бы его гробовая доска.
— Где там, этот пройдоха из гроба вылезет, если учует добрую взятку, — деловито отозвался кто-то из конюхов.
— Слышишь, как народ голосует за тебя? Упал бы, сучий выродок, ты на колени и попросил бы, чтобы простили тебе разную твою мерзопакость. Или, слышишь, давай сделаем так: я рвану твою броню в клочья, а ты завтра рви на фронт?!
— Придите в себя, дед! — испуганно уцепился в руку старика.
— Не шарпайся, а то как шарпану! — старик оттолкнул Поцилуйко и обернулся к конюхам: — Что же нам, ребята, с ним сделать? Не выпускать же такую добычу из рук? Взятки он брал?
— Брал.
— Дома наши разрушал?
— Разрушал.
— От фронта и партизанщины убежал?
— Убег! — уже грозно отозвались конюхи.
— Так, может, придавим его здесь, чтобы не паскудил земли?
— А чего с ним церемониться, — конюхи кругом обступили Поцилуйко. Он испуганно осмотрелся кругом, но на лицах прочитал суровый приговор и начал икать.
— Люди добрые, смилуйтесь. Я еще исправлюсь… — надломилась вся его фигура.
В ответ грохнул неистовый хохот. Рубленные, калеченные, огнем паленные люди смеялись и насмехались над верзилой.
— Кому ты нужен, падаль? Кто будет паскудить руки об тебя? — возвратил ему броню дед Евмен. — Ну, а на коня тоже имеешь броню?
— Какая же может быть броня на скот?
— Тогда конька мы оставим у себя.
— Это же произвол, грабеж, дед! — наконец отошел от страха Поцилуйко. — Отдайте коня!
— Без документов никак не могу — теперь военное время.
— И этого я вам не забуду, — уже осмелел Поцилуйко. Он круто повернул от конюшни и трусцой побежал к Безбородько.
Антон Иванович уже сквозь сон услышал назойливый стук в оконное стекло. Зевая и чертыхаясь, он соскочил на пол, подошел к окну.
— Кто там?
— Это я, Антон Иванович, — услышал знакомый голос. «Поцилуйко», — узнал и снова тихо чертыхнулся Безбородько. Припрется же такое счастье ко двору. Он бы охотно прогнал сегодняшнего Поцилуйко, однако же неизвестно, кем он станет завтра. Руководить — это предусматривать.