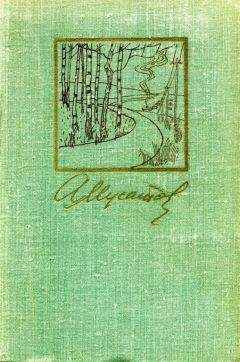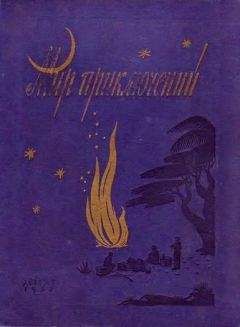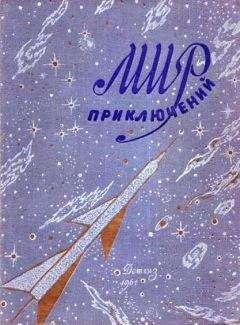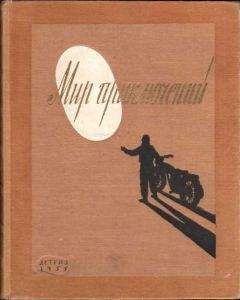— Скажу, — согласился Илья Ефимович.
Перед сном он подозвал Фильку и, погрозив ему пальцем, вполголоса выругался:
— Остолоп! Растопшонник! Глупостями занимаешься!.. Лошадей пугаешь!
— Так, тятька... — забормотал сын. — Я же не знал, что он в поводьях...
— Молчи! Слушай! — перебил его отец. — С завтрашнего дня держи себя на людях тише воды, ниже травы. О колхозах ни слова ни с кем... ни смешка, ни подначки. И Степку не задирать!
— Он же ищейка, шпионит за нами! — удивился Филька. — По следу ходит...
— Вот и не тронь его, не дразни. Филька ничего не понимал.
— Что ж мне, замириться с ним? — насмешливо спросил он. — В обнимочку ходить? «Ах, братик, голубчик!» Да лучше я...
Что «лучше», Филька не договорил: отец пребольно щелкнул его по голове согнутым в крючок пальцем и зашипел:
— Молчи, дурень! Я тебе еще толковать должен?! И замирись, если отец говорит. В струнку вытянись, притихни! Значит, так надо... Рано тебе еще своим умом жить. Да нам всем, может, землю грызть придется, на коленях ползать...
Филька на всякий случай отскочил в сторону. Но отец драться не собирался. Он только махнул рукой и подвернул фитиль в лампе.
— Спи давай! И чтоб завтра был как шелковый!
Потирая голову, Филька отошел к своей кровати. Это бывало не часто, чтобы отец щелкал его по затылку. «Замирись... притихни... так надо». Видно, отцу сейчас приходится туго.
Вздыхая, Филька полез под одеяло.
Степа открыл глаза от мягкого белого сияния и повернул голову к окну. За окном валил снег. Он уже прикрыл ржавую, окаменевшую дорогу, застывшую грязь и лужи, затянутые грязным, захоженным льдом, мусор и щепки около бревен. Улица выглядела чистой и белой, как вымытый и выскобленный к празднику пол в горнице, который еще не успели заследить.
Тяжелые, влажные хлопья снега падали густой завесой и ложились всюду, где они только могли задержаться: на черные слеги изгороди, на бревна, на поленницу дров, на скамейку в палисаднике, на ступеньки крыльца и даже на желоб колодца.
«Зима... пришла-таки», — улыбнулся про себя Степа, и ему вдруг захотелось первому пройти по заснеженным ступенькам крыльца.
Он пошевелил ногами, толстыми и неуклюжими от белых марлевых повязок, и приподнялся на локтях.
В избе никого не было.
На стене тикали часы-ходики, на табуретке, около кровати, стояла крынка с молоком, лежал хлеб; на лежанке дремала кошка.
Степа кинул взгляд на отрывной календарь на стене — вот уже восьмые сутки, как он лежит в доме у дяди.
Но почему именно здесь? Почему Савин не притащил его в общежитие или не отправил в больницу? И что ему нужно, дяде Илье? Он уже несколько раз заходил в избу и заводил разговор о том, что Степа ему все-таки племянник, родная кровь, и он, дядя, его в беде не оставит. Да и вообще, говорил он, им надо помириться, забыть про старое, жить в ладу и согласии. Пусть племянник так и останется в этой избе вместе с Танькой.
В забытьи Степе начинало казаться, что, может, и в самом деле ему незачем враждовать с дядей, в чем-то подозревать его. Но, приходя в себя, мальчик готов был крикнуть дяде в лицо, что он не верит ни одному его слову и сейчас же уйдет из этого дома.
Когда Степа делал попытку подняться с постели и вскрикивал от боли, Илья Ефимович успокаивал его:
— Ты лежи, поправляйся. Мы еще поговорим...
И Степа вынужден был лежать. В первые дни все тело саднило, горело, мучительно хотелось пить, и, забываясь на короткое время, он несвязно бормотал что-то про лошадей, про мешки с хлебом, Митю Горелова...
Приятели не забывали Степу. Они забегали утром до школы, приходили после занятий, лезли в избу, но Илья Ефимович строго-настрого наказал Тане никого не пускать к больному.
Только Нюшка, минуя все запреты, пробиралась в избу и вместе с подругой ухаживала за Степой.
Мальчишки же обычно присаживались на завалинку и гадали, останется их приятель хромым или нет. Афоня Хомутов смастерил даже костыли и принес показать их девчонкам.
— Да ты что, смеешься над ним! Хочешь, чтобы Степка колченогим остался? — накинулась на Афоню Нюшка и забросила костыли в огород.
— Да я так... на всякий случай, — сконфуженно развел руками Афоня.
Но чаще всего заходил к Ковшовым Митя Горелов. Он приносил рябину, моченые яблоки, заглядывал в окно, стараясь рассмотреть больного, или, упросив Таню с Нюшкой, пробирался в избу и подолгу сидел у порога.
Маленький, тщедушный, он был похож в своем красноармейском шлеме с опущенными отворотами на пришибленную, нахохлившуюся птицу.
Еще в воскресенье, когда Митя увидел изувеченного приятеля, у него словно что-то оборвалось внутри. Директор школы всем рассказывал, что Степа затеял лихую скачку и упал с лошади, а Мите почему-то казалось, что все это не так, что со Степой свел счеты дядя Илья или Филька, а может быть, и его отец.
А ведь такое могло случиться и с ним, с Митькой Гореловым. Но Степа все принял на себя и вот теперь лежит как пласт, изуродованный, в бинтах и повязках.
— Ну, чего ты сидишь, чего глаза мозолишь? — сердилась Таня. — Степе же легче не будет.
— Это ему из-за меня попало... Из-за меня, — бормотал Митя. — Надо бы нам вместе держаться...
Как-то раз к Ковшовым заглянул Матвей Петрович. Он долго смотрел на забинтованное лицо Степы, потом спросил, как к нему относится Илья Ефимович, хочет ли помириться.
— Хочет... — вполголоса ответил Степа. — А только зачем это?
— Все же он тебе дядя, родня...
Мальчик беспокойно заворочался в постели и, откинув одеяло, приподнялся.
— Рано еще вставать, — остановил его учитель.
— Матвей Петрович, — не слушая его, торопливо заговорил Степа, — не верите вы мне! Думаете, я нарочно на дядю наговорил, выдумал все? А вот нет... Голову на отсечение даю!
— Почему ты думаешь, что я тебе не верю? — в свою очередь, спросил учитель и уложил его в постель. — Не волнуйся... Мне Митя и Таня обо всем рассказали. И я не могу не верить. Выдумать это невозможно. Тут, друг мой, другая загадка: куда Ковшов с Гореловым перепрятали мешки с хлебом?
— Это я во всем виноват, — со вздохом признался Степа;— Надо бы сразу заявить о хлебе, а я тянул.
— Да, кстати... кому ты первому сообщил о мешках в подполье? — спросил Матвей Петрович.
— Федору Ивановичу.
— В воскресенье утром?
— Нет... Накануне вечером.
— А почему обыск проводили утром?
— Федор Иванович сказал, что надо подождать Крючкина. А вечером Крючкина не было в деревне.
— Странно! А мне Крючкин сказал, что он весь вечер сидел в сельсовете, — пожал плечами Матвей Петрович.
Он пытался разобраться в событиях последних дней: загадочное исчезновение хлеба, падение Степы с лошади, необычная забота о нем Федора Ивановича, желание Ильи Ковшова примириться с племянником. Но какая же связь между всем этим?
— Матвей Петрович, а вы что думаете? — осторожно спросил Степа.
— Нет-нет, ничего особенного! — поспешил успокоить его учитель, но про себя подумал, что Степе следует быть настороже: он слишком много знает о проделках дяди, и ему может не поздоровиться. «Надо будет Шурку предупредить, чтобы он Степу одного не оставлял».
— Матвей Петрович, я в общежитие хочу, — сказал Степа. — Чего мне здесь валяться...
— Это верно, — согласился учитель. Матвей Петрович попрощался и ушел.
Степа остался один. На душе у него было тревожно и тоскливо.
Почему Федор Иванович сказал ему неправду про Крючкина? Если бы они пошли с обыском к Горелову в субботу вечером, хлеб никуда бы не исчез. Зачем только директор оттянул обыск до утра? И почему он всегда так пристально смотрит на Степу? Может быть, он... Нет-нет, Степа не смеет об этом даже и подумать. Он хороший человек, Федор Иванович. Если бы не он, что сделал бы со Степой Красавчик! А кто тащил Степу на спине до самой деревни, кто посылал за фельдшером?
...Сейчас мальчик еще раз оглядел избу, прислушался и, осторожно спустив с постели ноги, встал. Тихонько сделал первый шаг.
Что-то отдалось в правом колене, но терпеть можно. Придерживаясь рукой за стенку, Степа добрался до двери, сунул ноги в какие-то опорки, накинул на плечи пиджак и вышел на крыльцо.
Вот и молодой снежок на ступеньках! Как он вкусно скрипит под ногами!
Степа подобрал палку у крыльца и, опираясь на нее, пошел чистым, светлым переулком. За ним сразу пролегли четкие черные следы, проступила земля — так еще тонок и слаб был слой первого снега.
Из-за угла вышли Шурка, Нюшка и Таня.
— Посмотрите только! — испуганно зашептала Таня, готовая броситься за братом. — Кто ему позволил?
— Погоди, — улыбаясь, удержал ее Шурка. — Пускай походит... Он почти и не хромает.
— А давайте считать, сколько он шагов сделает! — предложила Нюшка.