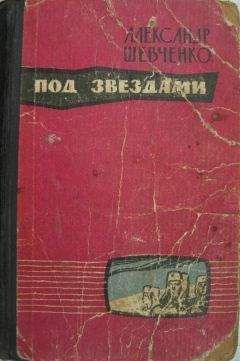— Для поддержки ваших штанов, понятно?
— Ну ты, не очень-то! — оборвал его Квашнин, — Без вас сколько стояли тут и выстояли, а теперь явился к шапочному разбору и героем себя считает!
И вот откуда-то издали послышалось робкое погромыхивание, затем гром стал нарастать и близиться — оглушающая лавина звуков мчалась, как несметный табун диких коней, и вскоре заполнила, заполонила простор.
Дрожащее красноватое пламя осветило ночное небо, казалось, начинается рассвет.
Когда полк Густомесова оборонял высоту, иным казалось, что наши резервы уже на исходе: полку приходилось трудно, а пополнений он не получал. Но теперь, когда два фронта — Калининский и Западный — перешли в решительное наступление против ржевско-вяземской группировки немцев, войск оказалось столько, что не хватало дорог, и части двигались прямо по целине живым неудержимым потоком. Занесенное глубоким снегом поле превратилось в широкую дорогу, разъезженную во всех направлениях колесами орудий, автомашин, повозок, гусеницами танков, протоптанную тысячами солдатских ног. 3 марта наши войска штурмом овладели Ржевом. Ржев был последним опорным пунктом немцев на Волге. Теперь Волга была свободной от устья до истоков.
Под ударами наших войск немецкие армии, обескровленные длительными ожесточенными боями, стали отходить. Наступающие части неотступно преследовали врага, с боями продвигаясь в юго-западном направлении.
По темному ночному небу быстро несутся рваные лохмотья пепельных облаков и вперегонки с ними бежит, куда-то торопясь, быстрый месяц. Когда его сияющий диск показывается в разрывах между облаками, он освещает голубоватым светом плоскую снежную равнину и черные фигуры солдат, молча бегущих на лыжах друг за другом. Лыжи со свистом скользят по твердой поверхности снега, заструганной мартовскими ветрами, а над нею кипит, растекается длинными струями поземка, и кажется, что люди не идут по земле, а плывут над нею в волнующемся снежном море. Небо впереди озарено трепетным багровым заревом пожаров, над зубчатой стеной леса поднимаются клубы дыма и смешиваются с облаками.
— Березовый Угол горит! — на ходу кричит Шпагин Арефьеву, обгоняя его и показывая вперед взмахом палки. — Значит, отходить, гады, собираются!
— Надо торопиться, а то угонят людей! — хрипло дыша, отвечает Арефьев.
— На утро назначена погрузка в вагоны — эшелон уже стоит на станции! — говорит бегущий рядом с ними человек в пиджаке и черной ушанке — партизанский проводник.
Колонна втянулась в лес. Холодный порывистый ветер раскачивал вершины елей, угрожающе гудел над головой.
Проводник остановился и прислушался:
— Собаки лают...
— Ветер на нас — это хорошо, — сказал Арефьев и отдал команду. Взводы разошлись направо и налево.
Шпагин и Арефьев с первым взводом стали осторожно пробираться в густом ольшанике и вскоре сквозь редкую завесу мелькающего снега увидели мутные пятна костров.
У ближайшего костра было около десятка гитлеровцев. Красный дым клубился над костром, пламя освещало топавших вокруг костра солдат в длинных шинелях и отвернутых на уши пилотках. Две огромные овчарки с вздыбленной на загривке шерстью были привязаны к дереву.
Прошли еще несколько шагов и подошли к опушке — и тут увидели Понизовское озеро. Это был громадный плоский овал с неровными краями, покрытый снегом; под светом месяца на снегу вспыхивали бесчисленные искры, и свет их сливался в сплошное голубое сияние, заливавшее поверхность озера.
И посреди этого овала чернела огромная толпа людей — целое море людское.
Эта темная масса жила, двигалась: она то вытягивалась и разрасталась в стороны, то сжималась, отодвигаясь от огненных хлыстов трассирующих пуль, которыми немцы били тех, кто пытался уйти с озера или просто отделялся на несколько шагов от толпы — и тогда толпа оставляла позади себя на снегу неподвижные черные трупы убитых, как капли крови своей.
Над толпою белым паром клубится дыхание многих тысяч людей, от нее доносился слитный гул голосов, в котором можно различить пронзительные крики женщин, захлебывающийся плач детей, хриплые стоны.
Огни костров, словно языческие жертвенники, пылающие в темноте, немцы, прыгающие вокруг огней в дикарском танце, мерцание голубоватого снега и черное бессмысленное скопище людей на озере, раскаты пулеметных очередей, крики и стоны — все это предстало перед Шпагиным как противоестественный, чудовищный, кошмарный бред.
Партизан тихо сказал:
— Многие уже четвертые сутки на озере — со всего района людей сгоняют!
Арефьев сквозь зубы произнес:
— Немецкая рационализация: чтобы удобнее было охранять!
— Они даже уничтожение людей механизировали, — сказал Шпагин, — душегубки, печи изобрели.
— Давайте команду, что ли, товарищ командир, — сдавленным шепотом проговорил Молев, — сил нет смотреть...
— Терпи, Молев, — не пришло еще время... Смотри и терпи... и запоминай все, на всю жизнь запоминай, — до боли сжал ему руку Шпагин.
На той стороне раскололи тишину и покатились над озером гулкие разрывы гранат, раздалась дробь автоматных очередей, винтовочная пальба, и вслед за этим одна за другой высоко взметнулись четыре красные ракеты. Они описали в темноте, которая стала еще гуще и плотнее от их дрожащего алого света, высокую дугу и на несколько секунд осветили толпу на озере, так что в ней стали различимы отдельные фигуры и видно было, как все люди повернулись и подняли головы навстречу ракетам и несколько мгновений, пораженные, не понимая, что происходит, словно на чудо смотрели на эти гроздья красного огня, падавшие на них с неба.
Это был условный сигнал общей атаки, который дал Пылаев, со взводом обошедший, озеро с противоположной стороны.
С треском ломая кустарник, солдаты ринулись на костер, на ходу открыли огонь и в несколько минут разделались с эсэсовцами.
Услышав стрельбу, начавшуюся со всех сторон, люди на озере поняли, что красные ракеты были вестниками их освобождения, и потрясающей силы всеобщий крик радости загремел над толпой, и неудержимая человеческая лавина хлынула к берегам озера.
Люди были истощены, намучены, но бросились помогать солдатам расправиться с охраной — они бились самоотверженно и страстно, как только может биться человек за свою свободу.
Солдаты бежали навстречу людям и те обнимали своих освободителей.
К Шпагину подбежала женщина с непокрытой русой головой и рассыпавшимися по плечам косами.
— Родные... спасители... — говорила она и обнимала его, и целовала, и плакала.
Он чувствует на своем лице ее горячее, частое дыхание, ее потрескавшиеся от мороза губы, ощущает соленый вкус ее слез — и сам гладит ее мягкие теплые волосы, и у него до боли режет в глазах, и он испытывает небывалое волнение. Он слышит, как гулко стучит его огромное, во всю грудь, сердце: он со своими солдатами два года шел к этому озеру, к этим людям, еще с той самой минуты, как они вступили в первый бой на польской границе, и даже тогда, когда по непролазной осенней грязи отступали к Москве, и потом, когда голодали, переносили нечеловеческие лишения, гибель близких, бросались в атаку на немецкие пулеметы, проливали свою кровь, умирали и воскресали. И вот теперь все это: все, что они претерпели, все их неисчислимые потери и жертвы — теперь все это получило оправдание, приобрело смысл и значение, и вся их жизнь приобрела величие исторического, бессмертного деяния.
На рассвете Скиба и Пылаев привели пленных немцев в деревню Березовый Угол.
На взгорбке, около большого дома, окруженного сплошным забором из березовых кольев, — бывшей немецкой комендатуры — они остановились.
На заборе еще висела большая вывеска с надписью «Kommandantur» и орлом над нею.
Пылаев сильным ударом приклада сбил вывеску на землю.
— Нет теперь на этой земле немецких комендантов и вовеки не будет!
Стали отбирать документы у пленных — Пылаев должен был конвоировать их в штаб полка.
Пленных было человек двадцать. Одежда на них — какое-то невообразимое тряпье, первоначальное назначение которого теперь уже невозможно определить. Пленные натянули на себя все, что только может согревать: платки, одеяла, женские пальто. Безразличие этих людей к своей внешности говорило о том, что животный страх за свою жизнь парализовал в них все человеческие чувства.
В одну ночь Пылаев увидел столько зла, столько ничем не оправданной жестокости, будто в эту ночь прожил много страшных лет.
А мимо идут и идут освобожденные с озера — их колонна тянется по взгорбку, через мост, широким снежным полем и выходит из лесу. Убитых и раненых несут солдаты на самодельных носилках из жердей.
Вот ведут под руки плачущую навзрыд женщину. Она несет на руках ребенка, завернутого в сшитое из пестрых лоскутков одеяльце. Ребенок мертв, но женщина не верит этому, не хочет примириться с его смертью; она кутает трупик в свой полушубок, стягивает с головы платок, чтобы потеплее завернуть его.