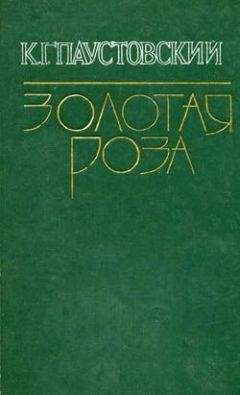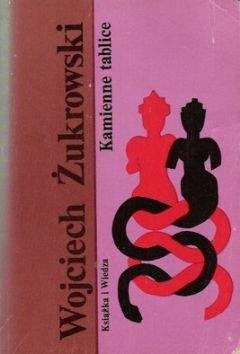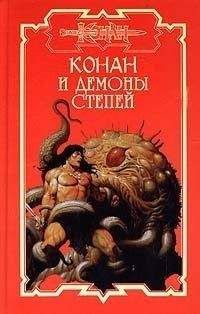Удивил Куинджи — каков?!. Давно ли ратовал против Академии, требовал ее закрытия — и вот извольте. Что ж, в конце концов каждый волен менять свои взгляды. И вовсе хорошо, если перемены — к лучшему. Шишкин тоже дает согласие на «профессорство», берется возглавить один из двух пейзажных классов, другой ведет Архип Иванович Куинджи, и они уговариваются работать сообща, не отгораживаясь друг от друга. И первое время действительно все шло как надо. Шишкин составил программу, в которой подчеркивал особо — натура и еще раз натура. Нередко вместе с учениками он выезжал на этюды, показывал, как надо писать. Тут он был в своей стихии — художник, прекрасный рисовальщик, пейзажист, и ученики с удовольствием работали рядом с ним. Но как только возвращались в мастерскую, Шишкин становился невыносимым — требовательность его переходила всякие границы. И многие из учеников, не выдержав, стали переходить к Куинджи. Там была полная свобода. Куинджи и сам не любил натуру, больше полагаясь на чувства и память, и от учеников не требовал отчета — важен конечный результат. Занятия у него проходили живо, легко и весело. Шишкин был уязвлен.
— Что ж, — говорил он угрюмо, — пусть уходят. Не жалко. Живопись не развлечение. Останутся двое-трое, но зато настоящих, талантливых. А на бездарных и время тратить не хочется. Скатертью дорога!..
«Живопись требует полной отдачи», — говорил Иван Иванович, требовал этого от учеников и сам следовал этому всю жизнь. Не проходило ни одной выставки, на которой бы не было шишкинских пейзажей. Оттого и не мог он понять более чем странного решения Куинджи — ничего не показывать и не выставлять. Вот уже десять лет Куинджи молчит. И столько разных кривотолков вокруг этого загадочного молчанья — одни утверждают, что Куинджи в своих колористических изысканиях достиг поистине чего-то небывалого, фантастического, другие, напротив, скептически относятся к такому неоправданно длительному молчанию. Если художник молчит — значит, сказать ему нечего. Так думал и Шишкин. Об этом он говорил друзьям и самому Куинджи, но «хитрый грек» только посмеивался — и ни слова. И Шишкин, возвращаясь домой, жаловался, что с Куинджи им ни за что и никогда не сговориться, словно между ними черная кошка пробежала… Ему хотелось сближения. Несмотря ни на что, он все-таки уважал Куинджи, но сам же своими вечными придирками и отдалял его от себя.
Осенью в залах Академии открылась ученическая выставка, и «шишкинцы» показали самые приличные этюды. Шишкин заболел и не мог увидеть собранных вместе работ своих учеников. Он сидел в своем кабинете, обмотав шею шарфом, и с грустью смотрел в окно. Дождь косо и резко бил по стеклам, шуршал по листьям деревьев, рыхлые облака волоклись низко и тяжело, и эта сырая осенняя тяжесть была невыносимой. Шишкина мучила одышка. Он страдал от тоски и смутной тревоги. Он не привык к болезням — за всю свою жизнь болел раза два, не больше, и не научился еще беречь здоровье. Врачи определили у него грудную жабу и предписали строгий режим. Какое-то время Иван Иванович добросовестно выполнял советы врачей, потом наступило улучшение, и он забыл о них, начал жить, как и прежде, без оглядки.
Но в Академии бывал по-прежнему редко, хотя и числился профессором, руководителем пейзажной мастерской. И в то утро, когда все-таки решил зайти в Академию, чувствовал себя вполне сносно. Старый швейцар, знакомый еще с давних лет ученичества, встретил приветливо, искренне обрадовавшись его приходу.
— Да вы, Иван Иванович, и вовсе хорошо выглядите! Чего уж зря… — Польстить, наверно, хотел. Шишкин поднялся по лестнице на второй этаж и увидел вице-президента Академии Толстого. Тот шел навстречу.
— Здравствуйте, Иван Иванович. Легки на помине, мы тут только что про вас говорили. Как вы себя чувствуете?
— Превосходно, — сказал Шишкин. — Лучше, чем прежде. Собираюсь в кругосветное путешествие…
— Ну, коли шутите, значит хорошо.
— Отчего ж должно быть плохо?
— Рад вас видеть в полном здравии, — сказал Толстой и кивнул в сторону выставочной залы. — А наши профессора картинки для провинциальных школ отбирают. Не желаете посмотреть?
Шишкин вошел в залу. Тут в сборе был, как говорится, весь профессорский цвет — Маковский, Куинджи, Киселев. Последний держал в руке кусочек мела, и с пальцев его на паркет сыпалась белая пыль. Шишкину обрадовались, он это видел по лицам друзей.
— Я вас, кажется, от важного дела оторвал, господа? — усмехнулся Иван Иванович.
— Важнее некуда, — сказал Куинджи.
Художники просматривали этюды и рисунки, выбирая, как показалось Шишкину, далеко не лучшие. «И этот», — говорил кто-нибудь, указывая на тот или иной этюд, и Киселев ставил где-нибудь на уголочке пометку, небольшой крестик, словно подписывал приговор.
Шли дальше. И этот? Снова крестик. «И этот», — сказал Куинджи. Шишкину показалось, что сказал он громче обычного. Рука Киселева дрогнула и опустилась, белая меловая пыль посыпалась на паркет. Наступила тягостная минута общего замешательства.
— Ну что ж вы? — сказал Шишкин. — Ставьте крест. Ставьте, ставьте, чего ж!
Повернулся и вышел. И не видел уже — поставил добрейший Александр Александрович «крест» на его этюде или так и не решился. А, теперь уже все равно! Да и не в том обида, что пошлют его или еще чей-то этюд в одну из далеких провинциальных школ, — тут он не видел ничего зазорного, напротив, с удовольствием отдавал свои рисунки и этюды, полагая, что польза от этого немалая. И работы его имеются и в Полтавской, и в Киевской рисовальных школах, дай бог, чтобы таких школ было побольше. Обидно было, что любезнейшие профессора свели это дело к формальности, и «картинки», как изволит выражаться граф Толстой, отбирают по принципу «что нам не гоже».
Иван Иванович спустился вниз по лестнице, прошел мимо оторопевшего швейцара. Мысли путались, сталкиваясь, мешая думать о чем-то определенном. Сердце вдруг напомнило о себе, заспотыкалось… Ну, ну! Теперь уже все… Хватит! Теперь уж он не попадется на удочку хитрых уговоров и не вернется больше сюда… Хватит с него!
Он свернул на Пятую линию, зашагал к дому, и все виделась ему картина, к которой приложил руку Куинджи. Казалось, не огонек светится в холодных северных далях, а смотрит с холста злым смеющимся глазом сам хитрейший Архип Иванович. «Убрать надо, затереть, — думал Шишкин. — Чтобы никакого следа. Каков человек, а! Нет, вы только подумайте, каков человек…»
Вечером, как и следовало ожидать, явился Куинджи. Они заперлись в кабинете и говорили в этот раз дольше, чем когда-либо прежде. Только и слышен был приглушенный, настойчивый голос Куинджи: «А я говору, неправда, выдумка… Кому вы поверили? А я говору, не было такого… ничего такого я не имел в виду… Вы же знаете, как я к вам отношусь…»
Шишкин вышел из кабинета смущенный, повеселевший, чуть даже растерянный, взглянул на Викторию Антоновну и, махнув рукой, неожиданно мягко и светло улыбнулся:
— Ладно, чего уж там… Помирились. Чай будем пить?
Но решения своего не изменил и в середине октября подал прошение об отставке. И в первые дни испытывал какое-то даже облегчение, словно свалил с себя непомерную тяжесть. Сознание личной свободы доставляло удовольствие, хотя, по правде говоря, академические занятия не так уж много отнимали времени. Ну да бог с ней с Академией…
Ученики его перешли в мастерскую Куинджи и все реже и реже заходили к нему, и сам Иван Иванович почти нигде не бывал. Только однажды заглянул в мастерскую бывшего своего ученика Шильдера, остался доволен его работами и с возмущением потом говорил: «Такого художника замалчиваем, уму непостижимо».
* * *
Летом Шишкин опять уехал в милые сердцу сосновые леса, поселился на станции Преображенской. Жил, как вольный казак. Взял себе за правило — вставать до солнца. Выпивал чашку горячего чая и уходил на этюды. Пока добирался до места, разгоралась в полную силу заря, медленно и торжественно выплывало солнце, и лес вспыхивал красным пожаром. Еще не истомившийся ранний воздух был чист и прохладен, дышалось легко, работалось весело.
Места тут были превосходные, близ Преображенской, и он влюбился в них. Правда, таких мест было немало в России, и он старался делить свою любовь поровну, но все труднее становилось это делать — в последнее время он уже не мог так часто, как прежде, уезжать далеко от Петербурга, круг с каждым годом как бы сужался; и Шишкин, горестно вздыхая, неловко шутил: скоро и меня самого, как картину, замкнут в раму. Надо спешить, говорил он, надо в полную силу жить. А сил оставалось все меньше, время жестоко обходится с людьми, отнимая у них самое дорогое — молодость, здоровье, а затем и саму жизнь. Думать об этом больно, но и не думать нельзя — человек обязан в своей жизни сделать все, что может, или по крайней мере должен к тому стремиться. И Шишкин все еще не сдается, работает много, сосредоточенно, и в пейзажах его чувствуются зрелость и мудрость большого мастера. И снова зреет в душе желание написать картину, большую и светлую, спокойную, взывающую к доброте и любви. Скорее всего это будет сосновый лес, но надо показать его как-то по-новому, с иной стороны; и когда он начнет писать, в душе вновь возникнет, словно вернувшись из сказочного далека, могучий звон «дедушкиного колокола», и он подумает о том, что жизнь сама по себе бесконечна — и это прекрасно. И мысль эта зазвучит своеобразным рефреном в новой его «лесной песне» — в самой большой и самой последней шишкинской картине «Корабельная роща».