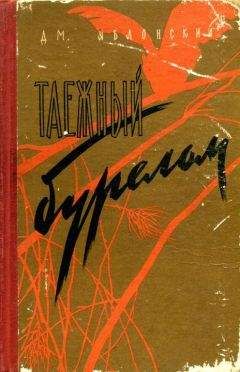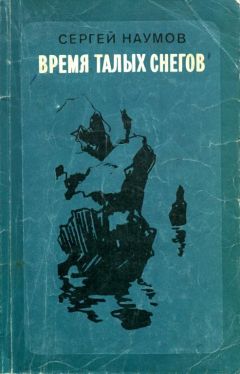— Некуда тебе силу девать, вот и бродишь, что-то ищешь.
— Верно, Тихон, сказал… Крупное семя и плод крупный. Только что из силы толку, когда кругом горе. Характер у меня мягкий, мухи пальцем не трону.
— А тигра бьешь!
— Кабы не брюхо, оно у меня прожорливое, не тронул бы, пусть гуляет, пока не зачванится.
Сумерки окутали лес. Кеша открыл глаза, зябко поежился. Игнат поднялся, понес мальчугана в шалаш.
Из раскрытых дверей теплушек раздавалось ржание коней, позвякивание недоуздков. У вагонов толпились солдаты. Вдоль состава прохаживались офицеры. Кричала торговка квасом. Шмыгали любопытные мальчишки. Кавалерийский чехословацкий полк готовился к отправке на Уссурийский фронт.
Наташа в застиранном ситцевом платье шла вдоль вагонов с плетеной корзинкой. Она выполняла задание подпольного комитета, раздавала листовки. Чехословацкие солдаты охотно покупали кедровые орехи, завернутые в серую бумагу, на которой было отпечатано письмо Ленина к солдатам мятежного корпуса.
— Эй, дочка!
Наташа остановилась. Ее догнал пожилой небритый солдат.
— Господам офицерам орехов!
Наташа накрыла салфеткой серые пакеты и протянула солдату белые.
— Кушайте на здоровье!
Когда все серые пакетики были распроданы, к Наташе подошел Ян Корейша — член большевистского комитета чехословацкого корпуса.
— Пойдемте. Ждут делегаты из всех взводов. Листовку до дыр зачитали.
У последнего вагона они остановились. Солдаты протянули девушке руки, подняли в набитую теплушку.
Кавалеристы усадили Наташу на мешок с овсом. Она стала рассказывать о событиях последнего времени, потом прочитала письмо Ленина о выступлении чехословаков. Ян Корейша переводил.
В тишине веско падали обличающие ленинские фразы:
«Вожди Национального Чешского Совета получили от французского и английского правительств около 15 миллионов рублей, и за эти деньги была продана чехословацкая армия…»
К Наташе подошел плотный чех с багровым шрамом от сабельного удара на лице. Он стиснул своими большими крестьянскими руками ее тонкие пальцы.
— От всей души спасибо! Не ручаюсь за других, но я клинок против советской власти не обнажу.
Он говорил по-чешски, пересыпая речь русскими словами.
— Мы всю правду расскажем в эскадронах. Не сплошаем, думаю! — Он окинул делегатов сумрачным взглядом, сжал угловатые челюсти, поглядел на часы. — Времени еще у нас хватит, мы задержим полк. Шестьдесят третий кавалерийский на позицию не выйдет. Не так ли, товарищи?
Рядом с ним встали еще несколько солдат. Чех с двумя медалями на груди с восхищением посмотрел в лицо русской девушки.
— Товарищи, — сказал он сдержанно и торжественно. — Антонио верно сказал. На позицию не выходим! Гайда пусть за те пятнадцать миллионов свою шею под красногвардейскую саблю подставляет.
Послышались одобрительные возгласы, все заговорили, перебивая друг друга.
Наташа, сопровождаемая солдатами-коммунистами, пошла к вокзалу. В это время к перрону подкатил санитарный состав, переполненный ранеными чехословаками. На подножке вагона повис солдат с забинтованной головой.
— Това-а-а-рищи! — звонко крикнул он.
Из теплушек посыпались кавалеристы. Офицеры не смогли пробиться сквозь стену солдатских спин.
— Товарищи, за что кровь проливаем? За что меня картечью изуродовали? За что шестьсот сорок семь человек триста сорок седьмого стрелкового полка под Никольском схоронили в братских могилах?..
Не отрываясь, смотрела Наташа на солдата. Она видела — тревога овладевает конниками.
— Нас обманули! Не выезжайте на фронт. Там вас ждет смерть!.. Правильно пишут большевики, вот читайте! Правдивые слова!
Солдат широко размахнулся и кинул солдатам пачку прокламаций, отпечатанных на шапирографе.
— Кто нами команду-у-ет? — взволнованно спрашивал солдат. — Японский генерал Отани! Что же это такое? Сегодня Отани, а завтра кайзер? Не верьте офицерам, они клевещут на большевиков… Не немцы и мадьяры и не большевики хотят нас уничтожить, а Отани, кайзер, Грэвс, Найт — наши враги! Требуйте отправки на родину!..
Последние слова потонули в восторженных криках. Громкое «ура» прокатилось по перрону.
Наташа попрощалась с чехами и заспешила в город. В саду Невельского ей предстояло встретиться с Андреем Ковалем.
…В этот час Борис Кожов шагал по улице. Как и все последнее время, он был мрачен. Перед глазами стояла сестра, на нежной шее которой еще совсем недавно захлестнулась петля. А он, казак Борис Кожов, до сих пор под одним знаменем с убийцами сестры!
Кожов искал и не находил выхода. Поговаривали казаки, что за каждый георгиевский крест красногвардейцы отпускали по двадцать ударов шомполами, а потом расстреливали. И тут же в памяти выплывало лицо Суханова, болезненное, изможденное, с честными хорошими глазами.
— Эх, доля казачья, жизнь собачья, — скрипнул Кожов зубами.
В саду Невельского он присел на скамейку и, поигрывая ножнами шашки, вспомнил те горестные минуты, когда его, пятнадцатилетнего парня, кинуло в водоворот войны.
…Жаркий и душный июльский вечер четырнадцатого года. Плачущая мать. Отец подседлал коня… Он, мальчишка, гордился отцом, его двумя крестами, полученными в боях на Ляодунском полуострове… Растил из него отец отчаянного казака. Никто из подростков во всей округе лучше его не скакал на коне, не рубил лозу, не дрался на кулачки… Отец уехал, а в дождливый сентябрьский день пришла бумага: Павел Кожов пал смертью храбрых на поле брани. В этот день Борис и бежал из родного дома на фронт…
Вычерчивая замысловатые узоры ножнами шашки, Борис Кожов размышлял.
Невдалеке от него на лавочку присела бедно одетая девушка. Кожов равнодушно отвел от нее глаза, стал смотреть вниз.
Но потом громкие голоса заставили его снова поднять голову. К девушке подошли два американских солдата. Они сели рядом с ней, стали что-то объяснять знаками.
Девушка поднялась, чтобы уйти. Широкоплечий, с квадратным лицом солдат схватил ее за руку, заставил снова сесть. Солдаты, о чем-то посовещавшись, взяли девушку под руки и потащили за собой.
Девушка закричала.
Андрей Коваль, пришедший в сад Невельского, увидел: к лавочке, около которой стояла Наташа и топтались американские солдаты, поспешно подходил молодой казачий офицер с четырьмя георгиевскими крестами. Неровные, взъерошенные брови, прямая между ними складка говорили о твердости характера. Казак был сухощав, широк в плечах, с тонкой талией, плотно перехваченной узким, с серебряной насечкой ремешком.
Андрей вгляделся в казака. Во всем его облике было что-то знакомое. И он догадался, что перед ним отважный разведчик Борис Кожов, тот самый, портрет которого был отпечатан на папиросных коробках.
— Эй, янки, постой! — Кожов преградил дорогу солдатам. — Разве тебе дана сила для того, чтобы девок обижать?
Солдат остановился, пренебрежительно оглядел стоявшего перед ним казака.
— Я кому сказал, стой! Девушка — моя невеста!
Ни слова не говоря, солдат потащил за собой Наташу.
Кожов изо всей силы вытянул его нагайкой.
Солдат вскрикнул. Наташа выскользнула из его рук, встала рядом с казаком.
— Беги, сестренка, до матери! — повелительно крикнул казак.
— Они убьют тебя!
— Не убьют! Беги!
Наташа встретилась глазами с требовательным взглядом Андрея и быстро пошла по саду.
— Я делай нокаут, — заявил солдат, сжимая кулаки.
— Что? — не понял Кожов.
— Бокс!..
Солдат с яростью поднял сжатые кулаки на уровень глаз.
Кожов отклонился от удара. Мгновенным, но сильным выпадом ударил солдата, тот сразу же рухнул на землю.
Кожов, не оглядываясь, неторопливо пошел своей дорогой.
Потрепанные под Никольском-Уссурийском и подкрепленные свежими силами, японские части при поддержке артиллерии вклинились в расположение так называемого редута Грозного, пытаясь замкнуть крылья тридцативерстной подковы, окружавшей подступы к Спасску. Красногвардейцы, напрягая все силы, сдерживали хлынувшие в прорыв превосходящие силы противника.
Бронепоезд командующего фронтом задержался на блок-посте. Проверили тормоза, и бронепоезд стал медленно спускаться под уклон.
Шадрин задумчиво смотрел в окно. Солнце зашло. Сквозь грохот поезда неотчетливо доносился гул сражения: стрекотали пулеметы, иногда гремели артиллерийские раскаты.
Опершись руками на стол, заваленный донесениями, стоял встревоженный прорывом фронта Дубровин.
Шадрин прикрыл бронированный ставень, подошел к карте.
— Никак не рассчитывал, что они нас в затылок ужалят, — глухо кинул он.