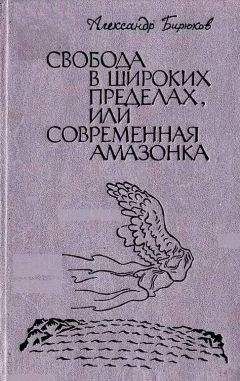— Ага, добрый, — подтвердил Виктор. — Дай пять рублей!
— А может, больше не надо, Вить? Хватит уже, мне завтра вставать рано.
— Да не пойду я за водкой. Дай пять рублей. Только одной бумажкой. А то вони будет много.
— Уж пожалуйста, не надо, — сказала Софьюшка и дала ему деньги.
Виктор старательно расправил пятерку, разгладил ее о край стола, повертел, понюхал, потом щелкнул зажигалкой и поджег.
— Виктор! — закричала Софьюшка. — Ты что? Ты с ума сошел?
Она кинулась, чтобы вырвать у него горящую пятерку, но он грубовато отвел ее длинной рукой и дал бумажке догореть до конца, перевертывая в пепельнице, пока последний уголок не почернел и не пустил дым.
— Вот так, — сказал он, выпрямляясь. — Искусство факта. Абсолютно новый вид творчества. Впечатляет?
— Вандализм, — причитала Софьюшка, — варварство! Зачем ты так?
— А вас? — спросил он Нину.
— Я пойду, — сказала она Софьюшке, — я просто так, по дороге зашла.
— Иди, если не понимаешь ничего, — Виктор опять улегся на тахту, — дура!
— А мы, между прочим, на брудершафт не пили.
— Все равно дура! — не уступал Виктор.
Ну и Софьюшка! Нашла себе приятеля!
Софья Исааковна прибежала к ней на работу на следующий день часов в двенадцать — было окно в расписании, а школа, теперь уже другая (Софьюшка нигде не уживалась), от библиотеки тоже недалеко. Они вышли в полутемный вестибюль, и Софья Исааковна зашептала, словно кому-то надо было их подслушивать:
— Ты не сердись, он не хотел тебя обидеть. Это он шутил так, только у него шутки не всегда получаются. Или, может, у него чувство юмора совсем другое, не как у всех? Знаешь, какая у него жизнь сложная была. И сейчас он все время на нерве, потому что совершенно не уверен в себе. Ты видела, какие у него глаза?
— Ладно, — сказала Нина, — мне-то что?
— А ты ему понравилась. Это я сразу поняла.
«Только этого еще не хватало, — подумала Нина. — Да не гляди ты на меня так. Не нужен мне твой Витя. Мне вообще никто не нужен — абсолютно!»
— Извините, — сказала она, — Софья Исааковна, меня ждут.
Через час ей дали «Мелкого беса», полученного для кого-то но межбиблиотечному абонементу из Хабаровска, только до конца дня; она зачиталась так, что забыла все на свете. Работы в этот день было мало.
Вечером Виктор дожидался ее, маячил между колоннами. Она сразу увидела его, когда вышла на улицу после работы. «Хорошо что мама уже ушла, — подумала она. — Но, может, он в театр?»
— Здравствуй, — сказал Виктор. — Сонька мне сказала, что ты до семи работаешь, а ты что-то дольше сидишь.
— Здравствуйте. А зачем вы пришли?
— Хочешь, провожу? Все равно делать нечего.
— Проводите, — сказала она, — тут недалеко.
«Зачем я это делаю, — подумала Нина. — Зачем он мне нужен? Сейчас какие-нибудь фокусы начнет выкидывать».
— Но пруд уже застыл, сосед мой нагнетает, — сказал Виктор.
— Что?
— Погода плохая. Замерз я как собака, пока тебя ждал.
Была середина февраля, градусов двадцать, с ветром. Они шли по Школьному переулку, ветер дул в спину и потому был не так заметен, а уж на Портовой наверняка сифонит.
— Не надо было ждать, — сказала Нина. — Зачем?
— Обязательно надо. Есть одно дело.
На углу Портовой она остановилась.
— Ну вот я и пришла. Спасибо что проводили.
Виктор что-то промычал, а потом сказал:
— Дай пять рублей!
— Опять жечь будете? Не дам.
— Ты только никакие слова не говори. Дай — и все.
— Нате, — сказала она, — только это очень глупо.
Он взял пятерку, поднес к глазам совсем близко, словно надеялся разглядеть что-то необыкновенное, и вернул.
— Вот и все, — сказал он. — Теперь ты мне должна пять рублей. Искусство факта.
— Ну так возьмите, если я должна, — сказала Нина, протягивая все ту же пятерку.
— Когда надо будет, приду, — сказал он. — Только ты не забудь. Искусство факта.
Цирк — да и только!
Но были и куда более спокойные вечера. Вместе о Аллой Константиновной они быстренько заканчивали хозяйственные дела, и оставались три занятия на выбор: кино, телевизор (цветных еще не было) или книги. И занимались чаще всего чтением, хотя уж, кажется, за целый день книги могли и надоесть. Было это так часто, что Алла Константиновна даже говорила:
— Шла бы ты, правда, погуляла. А то лежишь и лежишь — растолстеешь, кто замуж возьмет?
Но идти не хотелось. Была, конечно, Софьюшка, кое-кто из одноклассников в Магадане застрял, двоечница Пылаева, например, но все это надоело. И вообще ничего не хотелось — ничего.
— Мам, — спросила в один из таких вечеров Нина, — как же это все-таки получилось?
— Ты о чем?
— Почему ты мне ничего не расскажешь об отце?
— Вероятно потому, что ты хочешь знать больше, чем тебе полагается.
— Но ведь это мой отец.
— Ну и что? Я тебе уже все рассказала, что нужно.
— А что нужно? Когда я была совсем маленькой, ты говорила, что он уехал далеко-далеко. Потом сказала, что он давно умер. Я даже не знаю, кто он был по профессии, откуда родом. А может, он жив?
Алла Константиновна молчала. Казалось, что она так углубилась в чтение, что и не слышит ничего.
— Наверное, жив, — сказала она вдруг. — По крайней мере, три года назад был жив.
— И ты мне ничего не сказала?
— А зачем тебе, девушке, знать все эти пакости? Думаешь, тебе бы лучше жилось?
— Но ведь это мой отец.
— Что ты заладила — отец, отец! Этот человек был с другой женщиной даже в тот день, когда я тебя родила. Потом он сказал, что зашел к ней проститься, сказать, что между ними все кончено. И остался. Он мне еще записки носил в родильный дом, а я уже все знала — нянечка оказалась соседкой той женщины, к которой он ходил.
— А ты?
— А я принесла тебя домой, и, когда все ушли, я сказала, чтобы он немедленно убирался тоже, что если он задержится в Магадане хоть на три дня, я пойду в горком. Тогда с этим было строго, а он был на партийной работе, правда, на маленькой, но тем более не пощадили бы.
— Я думала, он полярник.
— А тебя в тот момент вдруг прохватил понос. И так я испугалась, что не заметила даже, как он ушел. И вспомнила о нем, кажется, только дня через два, когда собралась тебя первый раз купать, потому что одной это делать чрезвычайно неудобно. Да и боялась я, не знала, как к тебе подступиться.
— Ну а если бы нянька тогда ничего не сказала?
— Не знаю. А может, это так и надо — ребенка родили и расстались? Меньше вранья, по крайней мере. Конечно, одной очень трудно, но пусть будут алименты, пусть государство больше помогает. А счастливых семей я не видала.
— Деньги он присылал?
— Сначала присылал, но я все отправляла назад.
— А как же дальше, мам? Неужели ты больше никого не любила?
— А зачем? У меня была ты. Разве этого мало?
— Но ведь это — все?
— Всего никогда не бывает, доченька. Есть любовь — нет детей. Есть дети — нет квартиры. Есть квартира — ссоры в семье. И так до бесконечности. Надо довольствоваться тем, что есть.
— И что же тогда счастье?
— У кого как. Для меня это — чтобы ты всегда была здорова. Для Лидии Ивановны — чтобы муж не пил. Гнедкиной — квартира нужна.
…— Мам, но это все какие-то осколочки…
— А я тебе и говорю, что всего никогда не бывает. Может быть, это далее и не нужно? Когда ты здорова, когда у тебя хорошее настроение, мне все равно, где мы живем — там ли, в Школьном, или здесь, на Портовой, или в пятикомнатной квартире в Москве, хотя у нас там никогда ничего не было. Мне все равно — десять тысяч рублей у нас с тобой на сберкнижке или только десять рублей в кошельке. Все равно — цыкнет на меня завтра Светлана Федоровна или улыбкой одарит. Понимаешь, даже маленький кусочек счастья может стать фундаментом, на котором человек построит всю свою жизнь. И будет счастлив, потому что построил свою жизнь на реальном счастье, а не на вранье.
— А тебе никогда не хотелось, чтобы отец вернулся?
— Вернулся? Нет. А вот когда ты вылезала из какой-нибудь особенно вредной болезни, из стоматита, например, — помнишь, какой у тебя был жуткий стоматит в три года? Хотя откуда ты помнишь…
— Ты рассказывала.
— Да, вот когда с тобой происходило что-то особенно хорошее, когда ты выздоравливала, золотую медаль получила, в университет поступила, мне очень хотелось, чтобы — как бы это сказать? — все видели, какая ты хорошая. И чтобы отец тебя видел. И чтобы где-то недалеко от тебя и я стояла. И больше мне ничего не надо.
— Ух какая ты эгоистка, мам!
— Что поделаешь! А ты за это иди ставь чайник.
Поздно вечером, когда они, еще почитав, укладывались и Алла Константиновна поднялась в постели и потянулась над приставленной к кровати лампой, чтобы погасить ее, Нина увидела на миг очертания старого, увядающего тела, и острая жалость к матери уколола ее. «Какая же я свинья, — подумала она. — Что я делаю? Как живу?»