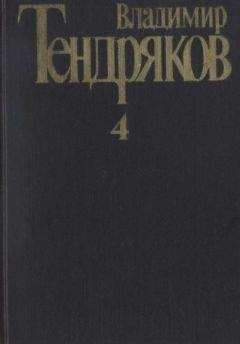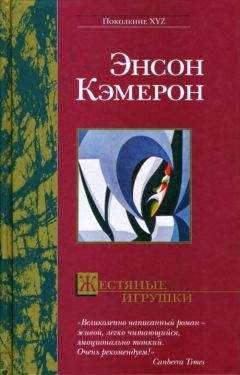У Терентия пронесло, был вызван сам Гришка Фролов.
— Под суд захотел?
— За что?
— За незаконное использование техники. Кто тебе давал наряд?!
У Гришки Фролова руки в карманах, чуб на глазах и прямые рубленые плечищи широко раздвинуты.
— А я, Евлампий Никитич, инициативу проявил. Разве не полагается? Думал, что зря земле пустовать, вдруг да хлеб колхозу на ней вырастет.
И усмешечка, и глаз не отводит под председательским взглядом. «Вдруг да хлеб вырастет». А вырастет — без «вдруг», это-то Евлампий Никитич знал, знали все. Без «вдруг», то-то и оно.
— Марш! Выясним!
Все ждали грозы, но бухгалтер Слегов понимал — вряд ли грянет. Признать незаконным, привлечь к суду, припаять срок — для Евлампия Лыкова все возможно. Но тихо и гладко это дело не прошло бы — зашумит весь район. Признать незаконным, а что тогда делать со вспаханным и засеянным участком? Не сровнять же его. Такого Лыкову даже самые верные лыковцы не простят. Да и сам Евлампий Никитич — хлебороб, вытаптывать посеянный хлеб не решится. Лучше не раздувать сыр-бор.
Евлампий Лыков решился на другое — завоевать петраковцев, чтоб поверили, полюбили — выкинули Сергея из души, его, председателя, приняли. И к тому же Петраковская заставляла задумываться. Она висела на шее хомутом, портила антураж. На полях ее, как и прежде, тощенькая ржица и ячмень тонули в бурьяне. Из-за петраковцев и сводки пониже, и почет пожиже: «Темпики-то, Евлампий Никитич, у вас нынче не те, что были…» Темпы старые, петраковская «божья рать» круто вниз тянет.
И Евлампий Лыков до весны решил сам заняться бригадой. Собрал на собрание всех баб и голоса, упаси бог, не повышал, совсем напротив — что ни слово, то ласковое обещание:
— Покажите, бабы, себя — станете во всем равны пожарцам, такой же точно трудодень получите. Весь район на вас станет смотреть да завидовать.
Не кривил душой, готов был уравнять петраковцев о пожарцами. Но бабы выслушали, разошлись, и все потекло по-старому, словно и не слышали слов Евлампия Никитича. «Катись под круту горку, плевать, ничему веры нет». Это что же получается — собака лает, ветер носит?..
Евлампий Лыков мылил голову бригадиру Шаблову, тот признавал: «Виноват. Исправимся». Шаблов и рад бы исправиться, да бабам ни к чему. Тяни снова на горбу постылую бригаду.
Но после весны Петраковская вдруг проснулась. На пустыре подымалась рожь. На этот раз чудо вроде небольшое — ржи-то всего каких-нибудь три неполных га. Но уж слишком крикливо этот бывший пустырь напоминал всем — какие бы хлеба могли расти, если б не подставили подножку Сергей Николаичу, если б, прости господи, не Евлампий Никитич… Петраковская проснулась, чтоб возроптать. Бабы останавливали Сергея на улице:
— А куды отсюда зерно-то пойдет? Теперь-то для кого ты стараешься?
— Пожалуй, для пожарцев, бабы. На вас, прямо скажу, надежд нет. Подари это вам, получится — ни богу свечка, ни черту кочерга. Пусть уж пожарцы золотой навар сымут.
И бабы, как прежде, подымали горячий крик:
— Не отдадим! Постоим за себя! Кивни, Сергей Николаич, — хоть сейчас в волокуши.
Петраковская просыпалась.
Что еще оставалось Евлампию Никитичу? Пожалуй, только одно — идти на мировую с племянником.
«Решил отозвать Терентия Шаблова с бригадиров. Ставлю снова Серегу…» И прими, Иван Иваныч, участие в разговоре: «Зла не помню, будь свидетелем». Еще бы…
А разговор поручился не из приятных. Сергей явился чистенький, жениховски отутюженный, постный, замкнутый. Настороженно огляделся в кабинете, в котором так давно не был. А в кабинете — перемены: снят большой портрет вождя в сапожках, вместо него другой портрет — товарищ Хрущев, только по грудь. Чугунный младенец по-прежнему стоит на столе, грозит пальцем.
— Садись, — широко приказал. Евлампий, словно вчера расстались друзьями. Помедлил, помигал в сторону: — Давай, Сережка, — кто старое помянет, тому глаз вон.
— Поминать не буду, забыть не прикажешь.
Старший Лыков вздохнул с небывалым смирением:
— Это уж как тебе угодно… А выслушать меня придется. И выслушать, и совет дать.
— Я — тебе?.. Ты вроде не очень-то охоч был до чужих советов.
— Нужда научит собаку грибы всухомятку есть. Вот ответь: молодежь-то на сторону потянулась. Никогда такого не было. Почему это?
— А сам что думаешь?
— Эва! Раз спрашиваю, да еще и шапку ломаю, то, видать, мне мои мысли не так уж и дороги.
— Тогда не тяни, уходи. Себе накладней — сидеть в дамках да слыть пешкой.
И Евлампий не выдержал смирения, потемнел лицом:
— Эй-эй! Сам-то могу себе отходную петь, а другие пусть повременят! Язык еще откушу!
— Все по-старому, с оскалом да с рыком. Откушу! Бойся! Страшен! А не кажется ли, что и голос сдает, да и зубы у тебя уже не те?
Лыков-старший отвернул потемневшее лицо в грозном молчании.
И вот чудо — никаких последствий: Терентия перевели на другую работу, Сергея утвердили в бригадирах, на первом общеколхозном собрании ввели в члены правления.
Тревожен был в последние годы Евлампий Лыков, что-то неуловимое происходило в лыковской державе. По-прежнему — самые породистые коровы, самые высокие удои, самые тучные свиньи, надежные урожаи, крепкий трудодень. «Власть труда» по-прежнему в числе лучших из лучших. Но…
* * *
Иван Иванович повернулся к парнишке-шоферу:
— Слышь-ко, звать-то тебя не знаю как?..
— Сашкой. Истомин я. Петра Истомина знаете, так я сын ему.
— Эвон, у Петрухи какой парнище вымахал… Не замечаю я, старик, как растет молодежь. А скажи мне, Сашок, по совести — собираешься улепетнуть из колхоза?
Сашка посопел, помолчал, настороженно спросил:
— А что?
— Ничего. Загадка для меня. Ты здесь и сыт, и одет, и кино тебе привозят. Чего тебя манит на сторону?
— Чего? — Сашка хмыкнул. — Здесь кочки да ямины обнюханные, а там — «широка страна моя родная». В одном месте не понравится, в другое махну. Волюшка.
— Волюшка… — сказал Иван Иванович и замолчал, уронив на грудь голову.
Тридцать с лишним лет назад Пийко Лыков перебил хребет, забрал навечно. Волюшка…
Но хребет человеку можно перебить не только свежеотесанной оглоблей.
В соседних деревнях — лепешки из куглины, а вам, люди добрые, чистый хлеб даю из своих рук! Спасибо тебе, Евлампий Никитич, веревки вей из нас, только от себя не гони.
Кусок хлеба при общей голодухе потяжелей оглобли.
Колхоз Лыкова и сейчас самый лучший, другие — куда ниже, сколько их, неустроенных и заваленных, не сводят концы с концами. Но даже в самых горьких колхозах теперь не на травке пасутся — хлеб едят, пусть покупной, пусть окольными путями заработанный, но чистый хлеб.
Кусок хлеба нынче не дубинка. Не пробуй махать, не напугаешь. Кто постарше — живут, как жили, молодым — тесновато.
Когда-то Евлампий Лыков умел ловко подлаживаться:
— Жирок нагуливаете, ребятушки? Ну, лежите, лежите, а я поработаю…
На старости лет, при громкой славе начал снова подыгрывать:
— Клуб вам, ребята, новый отгрохаю.
А клуб и старый неплох, кино и теперь почти каждый день. Кино показывает большие города, великие стройки, широк мир за околицей села Пожары, лишнее напоминание — тесновато здесь, душа на простор просится. Волюшка.
— Иван Иваныч!
— А?..
Рука осторожно трясет плечо:
— Приехали, Иван Иваныч.
— Эх-хе-хе! Помоги, дружок, выползти. Совсем что-то раскис.
Он остался перед калиткой, повиснув на костылях, долго глядел вслед машине, пока красный огонек не исчез за поворотом.
Этот желторотый, что гонит сейчас машину, не догадывается — он самая важная фигура в колхозе. Будущему председателю придется считаться с ним в первую очередь. Хлебом не прельстишь и новым клубом — навряд ли. Что нужно этому, унюхавшему волюшку парнишке? Что?..
Иван Иванович не знает, как не знал и покойный Лыков.
— Иван! — раздалось из темноты, от дому. — Да жив ли, голуба?
— Жив, Марья. Иду.
— Слава богу, а то сердце упало. Стоишь и стоишь, не стряслось ли чего, думаю.
Жена давно вышла на шум подъехавшей машины, ждала его на крыльце.
Она, услыхав, что председатель скончался, молча перекрестилась, с особой бережностью спросила:
— Ужинать будешь?
— Нет, не неволь. — И устало поинтересовался: — Чего не пожалела?
Помолчала.
— Не могу.
Если и был у Лыкова тайный враг, то это она, постоянно видевшая костыли мужа.
— Тогда меня пожалей, — сказал он тихо.
— Ты что?.. — Удивление и страх в голосе.
Они не часто — чтоб не стерлось — вспоминали годы, когда молодые, здоровые, красивые проезжали по селу на серой паре. Но право, тогда они меньше любили друг друга. Без нее он не вынес бы бесконечно долгой сидячей жизни — она единственное счастье, опора.