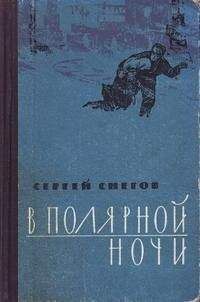— Караматин проектирует? А почему ты мне сразу об этом не сказал? — с негодованием воскликнул Назаров. — Мы ведь с тобой не игры играем!
На это Седюк ничего не ответил. Он понимал, что истинная причина его резкого отпора Назарову — личная к нему неприязнь. Говорить об этом он не мог, а находить какие-либо иные причины — значит лгать.
— Да пойми, — сказал он с досадой, — не считаю я это срочным. Первая кислота понадобится не раньше, чем через полгода.
— Вижу, нам с тобой не сговориться, Михаил Тарасович, — сказал Назаров холодно. — Придется решать это дело иным способом.
— Приказом меня обяжешь? — усмехнулся Седюк.
— Приказы мои для тебя — пустое слово, — спокойно возразил Назаров. — Я штатные права хорошо вытвердил и знаю твою самостоятельность в технологической области. Нет, мы сделаем по-другому — пускай Сильченко и Дебрев решат наш спор.
— Твое дело, иди к начальству. А сейчас извини, Николай Петрович, мне пора на занятия в учкомбинат, — сказал Седюк, вставая.
Весь путь от опытного цеха до учкомбината Седюк думал о своем разговоре с Назаровым. Разговор этот вставал в нем как отрыжка непереваренной пищи. Седюк знал уже, что был неправ — нельзя обращаться с Назаровым так неоправданно грубо. Конечно, Назаров не гений, пороху он не выдумает и звезду с неба не уведет. Но затруднения с кислотой волновали его искренне, впервые Седюк видел, что Назарова мучает дело, а не соображения мелкого престижа и приятельских отношений. Вот тут бы и поговорить с ним по-хорошему, может, даже и сойтись с ним на этой почве настоящего дела. Вместо этого получилась глупая ссора, чуть ли не бабья свара — нехорошо, нехорошо!
«Крепко же он верит в свою правоту, если собирается идти на меня с жалобой к Дебреву!» — удивленно и одобрительно подумал Седюк.
Ему даже начинала нравиться смелость Назарова. Уж кто-кто, а он, Назаров, знает, что это не так просто — открыто напасть на Седюка в кабинете у Дебрева. Сумрачный, со всеми одинаково неприступный и сдержанный, Дебрев сильно привязался к Седюку. Внешне это выражалось только в том, что он взваливал на него работы невпроворот и спрашивал строже, чем со всех. После того как удался электропрогрев, не было такой комиссии по проверке предприятий и строительных контор, куда бы он не совал Седюка председателем или членом. Однажды, когда Дебрев выговаривал ему за какие-то лесинские грехи, Седюк воскликнул:
— Валентин Павлович, пойми, я не двужильный и за всем в мире наблюдать не берусь.
— Не двужильный, верно, — спокойно согласился Дебрев. — Но жила у тебя крепкая, это нужно учитывать.
Все знали пристрастие главного инженера к Седюку и использовали это.
— Может быть, вы сами пойдете к Валентину Павловичу? — говорил Караматин, когда надо было утвердить какой-нибудь проект. — У вас это скорее пройдет, чем если мы все заявимся!
Разные люди то и дело просили Седюка походатайствовать перед главным инженером, а Янсон однажды сказал язвительно:
— Доказывать вам, Михаил Тарасович, бесполезно, вы с Дебревым все равно по-своему повернете.
«Любопытно, как он изобразит меня перед Дебревым — неучем, ничего не понимающим в технологии, или лентяем, не желающим влезать в трудное и срочное дело? — думал Седюк, шагая во тьме. — А я буду оправдываться и обещать исправиться — забавное положение!»
Только придя в учебный комбинат, Седюк оставил эти волновавшие его мысли.
Занятия в комбинате шли уже три недели. Труднее всего было отыскать хороших учителей, но Караматина добилась от Дебрева специального приказа: все инженеры, у которых она найдет хотя бы маленькое педагогическое дарование, должны шесть часов в неделю отдавать школе. Она извлекла из этого приказа все, что было можно: педагогический талант был найден у Зеленского, у постоянно насупленного Прохорова, начальника ремонтно-механического завода, у насмешливого Янсона и проектанта Пустовалова. С ней не спорили — никто не хотел получать от Дебрева замечания. Не спорил и Седюк, хотя в нем Караматина открыла педагогический гений — ему были отданы все основные дисциплины по металлургии.
Работу свою Караматина, видимо, очень любила и была отличной руководительницей школы — властной, внимательной, чуткой и настойчивой.
Янсон, читавший математику, в начале своей педагогической деятельности совершил крупную ошибку и много крови себе попортил, пока ликвидировал ее последствия. «Посидим, поболтаем, поухаживаем за Лидией Семеновной», — так легкомысленно представлял он себе работу в школе. Один раз он прогулял, другой раз опоздал — Лидия Семеновна не сделала ему замечания, но пришла в класс на занятия и с молчаливым презрением смотрела ему прямо в лицо. Он признавался потом, что это были самые тяжелые часы его жизни. «Еле доплыл до звонка», — жаловался он приятелям.
Его пример оказался хорошей наукой другим. О Зеленском было точно известно, что он держит в своем столе учебники по железобетону и монтажу конструкций и зубрит их в обеденный перерыв.
Седюк не ограничился наваленными на него специальными курсами. После разговора с Караматиной его заинтересовали нганасаны. В их группе преподавались только элементарные предметы — русский язык, арифметика, география, политграмота. Седюк взял арифметику — она не требовала подготовки. Лидия Семеновна ввела его в небольшую комнату, увешанную карандашными рисунками, и сказала ученикам:
— Ребята, я привела к вам нового учителя. Его зовут Михаил Тарасович. Вы должны его слушаться и хорошо учиться.
Нганасаны, как по команде, разом встали, потом сели. Многие засмеялись — им нравилось это шумное вставание, и они с охотой повторили бы его. Лидия Семеновна сказала вполголоса:
— Я пойду, Михаил Тарасович, без меня вы лучше познакомитесь с ними.
Он стал выкликать ребят по журналу. Их было пятнадцать человек — одиннадцать мальчиков и четыре девочки. Они сидели в своих национальных костюмах — мальчики в тяжелых пыжиковых сакуях с капюшонами, девочки в нарядных песцовых коротких малицах, расшитых цветным бисером. В комнате было тепло, и Седюк спросил, не жарко ли им. Они шумно заговорили все разом.
— Жарко! Очень хорошо, жарко! Очень хорошо! — кричали они.
«Ну да, — подумал Седюк, — девять месяцев зимы и холода — тут поневоле полюбишь тепло».
Он старался затвердить их имена и освоиться с их лицами. Больше всего ему запомнились в тот первый день самый старший из мальчиков, восемнадцатилетний Яков Бетту, худенький, бледный Най Тэниседо и очень красивая и стройная Манефа Скорликова, девочка со смуглым полурусским лицом — ее отец и в самом деле был русским. Эти трое держались свободно и командовали другими ребятами. Когда Седюк, окончив перекличку, встал, чтобы пройтись по классу и рассмотреть рисунки, Яша Бетту что-то громко крикнул и все вскочили. Седюк объяснил, что вставать всём вместе нужно, только когда входит или выходит из класса учитель, а в остальное время должен вставать только тот, кого он вызовет. Ученики согласно закивали головами, но все-таки еще несколько раз вскакивали все вместе, когда он обращался к ним.
Седюк в живописи разбирался плохо, но и его поразили недетская точность и тонкость рисунков нганасан. Картинки, развешанные на стенах, изображали сценки кочевого быта — санки, запряженные оленями, олень, пьющий воду в ручье, несущаяся по следу собака, песцы, попавшие в капканы. Перед пьющим оленем он остановился — с удивительной точностью были переданы движения склонившего голову и согнувшего передние ноги оленя.
— Кто рисовал это? — спросил Седюк.
— Най! — закричали все, вскакивая и показывая на Ная Тэниседо.
Най тоже поднялся и ткнул себя пальцем в грудь:
— Най!
— Хорошо рисуешь! — сказал Седюк.
У него было два часа, и он не торопился начать занятия. Он разговаривал с ними, спрашивал, откуда они, что знают. По-русски они говорили с трудом, слов у них не хватало, но отвечали они охотно. Все они учились в начальной школе и знали сложение и вычитание. Манефа помнила и таблицу умножения. На всякий случай Седюк начал с нее — он выписал на доске всю таблицу и принялся объяснять.
— У меня есть вопрос! — крикнул с места Най. Все дружно зашумели:
— Най, говори! Говори, Най!
— Говори, — разрешил Седюк.
— Скажи, Гитлер — он какая бывает? — опросил Най.
Седюк, удивленный вопросом, в первую минуту не знал, что ответить. Сказать, что этот вопрос на уроке математики неуместен, он не мог — все пятнадцать нганасан, вперив в него настойчивые, ждущие глаза, молчаливо требовали ответа. Он видел, что вопрос Ная интересует их гораздо больше, чем таблица умножения. И он стал рассказывать о Гитлере, описал его внешность, лающий, хриплый голос. Он скоро увидел, что его слушатели разочарованы — его точное описание не объясняло им природы Гитлера. И тогда он сказал: