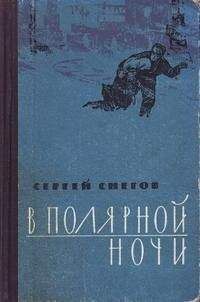— Гитлер — это хищный волк, Гитлер — это взбесившаяся собака, которая кинулась кусать мирных людей. Гитлера надо поймать в капкан и застрелить.
Это объяснение понравилось куда больше — видимо, оно походило на их собственное представление о Гитлере, — они радостно закивали.
Лидия Семеновна ожидала Седюка в учительской. Она тотчас же, как только он вошел, спросила:
— Ну как, они вам понравились?
— Чудесные ребята, Лидия Семеновна!
Она вся расцвела, услышав это, и посмотрела на него так благодарно, словно он похвалил ее самое.
С каждым уроком нганасаны нравились ему все больше. Это были веселые, добрые, непоседливые и шумные ребята. Их все интересовало и волновало — машины, проезжающие по улице, гигантские экскаваторы на строительных площадках, электрический свет на улицах, каменные многоэтажные дома. Объяснения учителей они слушали с самозабвенным вниманием. Все новое — новый закон, новое математическое правило — вызывало у них взрыв восторга. Неудачи свои они переживали так остро и открыто, как это бывает только в минуты великого горя. Когда у Ная Тэниседо не вышла задача на именованные числа, он у доски расплакался, и из сочувствия к нему расплакались все. Яков Бетту, получивший от Седюка свою тетрадку с двойкой, в бешенстве разорвал тетрадку в клочья и долго топтал ее ногами. Если же кого-нибудь из них хвалили, они все вскакивали и неистово кричали, хохотали, радуясь за товарища. Даже хмурого Прохорова трогал пыл, бушевавший в его учениках.
— Знаете, Лидия Семеновна, — говорил он во время перемены медленным басом, единственным в Ленинске по густоте, — удивительный народ ваши ученики, ей-богу! Еще не встречал таких. Из них выйдет толк.
— А что, что случилось? — спрашивала Лидия Семеновна, сразу оживлявшаяся, когда хвалили ее учеников.
— Доставил я им модель станочка, у меня на заводе ребята специально для занятий изготовили, — ну, вы его видели вчера… Показываю, как зажимать деталь, как вращать штурвал — станок ведь ручной — как снимать стружку. Яша Бетту стал точить, и стружка пошла. Поверите? Все захохотали, затопали ногами, каждый лезет к станочку, самому поточить… Нет, будет толк, непременно будет!
День, когда ребята сбросили свои меховые одежды и надели форменное зимнее обмундирование, запомнился всем преподавателям. Яша Бетту выбросил свои узорные сапожки-бакари за окно и с криками радости влез в грубошерстные валенки. А Манефа, одетая в ватную телогрейку и бумажную юбку, с визгом носилась по комнате, топча ногами свою нарядную белую малицу, расшитую цветным бисером, с капюшоном из бесценного голубого песца. Манефа была очень хорошенькая, а потому всем казалось, что телогрейка ей к лицу. Занятия в этот день шли плохо — на уроках нганасаны все время охорашивались и с восхищением осматривали себя и своих товарищей.
Но в этот день Седюку не везло. После ссоры с Назаровым он чуть не поссорился с Караматиной. Когда он пришел, в учительской сидели Янсон и Прохоров и разгневанная Лидия Семеновна описывала им свои сегодняшние злоключения. Седюк застал конец истории: заведующий торготделом осмелился выдать в столовую нганасанского интерната рыбные консервы вместо свежего мяса.
— Вы знаете, что сказал мне этот тип? — говорила она, краснея от возмущения. — «Подумаешь, говорит, гурманы! Что я им, котлеты де воляй выписывать буду? Ничего, похлебают суп из муксуна в томате».
— Ай-ай, так прямо и ляпнул — «де воляй»? — сочувственно переспрашивал Янсон. — Вот ведь какие несознательные люди эти деятели общественной торговли! Ну, а вы что, Лидия Семеновна?
— А что я? Я даже спорить с ним не стала. Я схватила его же телефонную трубку и вызвала Валентина Павловича. Я никогда не думала, что люди могут так дрожать и заикаться, как этот заведующий. У него даже руки тряслись после разговора с Дебревым и губы побледнели. Он только сумел пролепетать: «Я думал, вы девушка как девушка, а вы жох первой статьи!»
Она засмеялась, и в ответ ей улыбнулся даже насупленный Прохоров. Но Лидия Семеновна внезапно умолкла и грозно посмотрела на Седюка.
— А вы тоже хороши! — сказала она с упреком. — Вот уж от вас не ожидала, что вы так нетверды в своем слове!
— А я в чем виноват? — изумился Седюк.
— Как в чем? Вы еще спрашиваете! А кто обещал перевести моих учеников в опытный цех? А где они сейчас? На старом месте!
— Ну, почему же! — запротестовал Седюк. — Лесин подыскал им легкую работу — они помогают в ремонтно-механических мастерских, знакомятся со станками. А что до опытного цеха, то беда в том, что его еще нет, он только монтируется.
— Ничего знать не хочу, — решительно сказала Караматина. — Я молчала, пока у вас там котлованы рыли, а сейчас есть стены и крыша, значит уводите их под крышу. Как вы понять не можете — нганасан на всем земном шаре всего шестьсот человек! Это самая маленькая народность во всем Советском Союзе и самая северная во всем мире. Какая же у них удивительная духовная и физическая сила, если они выжили в таких ужасных условиях! Жители самого страшного уголка природы, а какие жизнерадостные, приветливые, способные…
— Я очень уважаю их и за малое количество на земном шаре и за природные способности… — начал было Седюк, но Караматина прервала его, гневно сверкнув глазами:
— Сказки вы умеете рассказывать, я это хорошо знаю! Сейчас от вас требуются дела, понятно?
Это был первый намек на их старое знакомство, о котором никто не знал, — Караматина, видимо, почувствовала, что воспоминания эти неприятны Седюку. Седюк примирительно пробормотал:
— Ладно, не будем ссориться, все сделаю.
Все же он был прав — нового опытного цеха еще не существовало. Сам Дебрев взял под свою высокую руку это маленькое строительство, но шло оно медленно, стены выгнали под крышу только к концу сентября. После этого дело пошло быстрее. Лешкович прислал бригаду опытных монтажников, люди эти даром времени не теряли и разговорами не занимались. Самую важную работу — кладку отражательной печи и футеровку конвертера — взял на себя Козюрин, старый знакомый Седюка по Пинежу. Седюк с невольным уважением смотрел на его работу, ему еще не приходилось видеть такого мастерского обращения с кирпичом.
— В руках у каменщика кирпич поет, — говорил сам Козюрин. Он быстро и ловко повертывал в руках тяжелый и твердый магнезитовый кирпич, придавая ему мастерком сложную фасонную форму. — Каменщик, что твой скульптор, чего хочешь из камня соорудит.
Киреев, властно вмешивавшийся в строительство опытного цеха, жестоко обидел Козюрина. Когда отражательная печь была закончена, Киреев как был, в костюме, влез в печь и прощупал рукой каждый шов. Отряхнувшись от пыли, он пробормотал:
— Ничего, сойдет!
Этого Козюрин снести не мог.
— Не ничего, а хорошо, — сказал он с обидой в голосе. — И не сойдет, а так, как надо, лучше никто не сделает, вот что! А если не нравится, так полезайте сами и футеруйте по-своему.
Озадаченный Киреев с недоумением смотрел на Козюрина, потом, вспыхнув, закричал:
— Как это «сами полезайте»? Я же сказал — отличная работа, ничего переделывать не нужно!
Козюрин потом ворчливо говорил своим подручным:
— Загордился очень начальник, «ничего» говорит, когда вовсе хорошо, а не ничего.
Холодок в отношении старого мастера к Кирееву остался. Козюрин с недоброжелательством смотрел за Киреевым, когда тот появлялся в цехе. Седюка он, напротив, полюбил и с охотой показывал ему даже незаконченную работу.
— Тебе, Михаил Тарасович, можно, — говорил он доверительно, — ты человек с понятием.
Когда кладка печи и футеровка конвертера были закончены, Козюрин, прощаясь, долго тряс руку Седюку.
— Заходи ко мне домой, — приглашал он. — У нас комната хорошая, тебе понравится. Чайком угощу, побеседуем. — И растроганно повторял: — Мы же с тобой старые знакомые, Михаил Тарасович, вместе бедовали в дороге.
— Приду, — обещал Седюк. — Немного освобожусь и непременно приду, Ефим Корнеич.
Седюк не уставая присматривался к людям, и каждый день приносил ему что-нибудь новое. Сначала он до хрипоты спорил и ссорился с раздражительным Киреевым, а потом открыл в нем черту, которая сразу примирила его со всеми странностями киреевского характера. Киреев не был ни обидчив, ни злопамятен. Уже наутро он начисто забывал все ссоры минувшего дня и разговаривал с человеком, от которого потерпел обиду, так, словно между ними ничего не произошло. С чужими желаниями и удобствами он не считался, но Седюк видел, что он и с самим собой не церемонился и не требует для себя ни удобств, ни внешних знаков уважения, ни поблажек, если ошибался и убеждался в своей ошибке. Никогда еще Седюк не встречал человека, так фанатически влюбленного в свое дело. В Ленинске для Киреева было только одно место, достойное внимания, — опытный цех. В столовой он ел, не обращая внимания на еду, чтобы только скорее разделаться с этим скучным делом, в кино не ходил, прогулок не терпел, даже газеты, когда они попадались ему под руку, просматривал наспех. Приходил он на работу раньше всех, а уходил с трудом: уже надев полушубок, мог часами стоять перед каким-либо аппаратом и наблюдать его работу, вмешиваясь в операции простого лаборанта. Нередко он ночевал в цехе, в своем крохотном кабинете, на диване, заваленном книгами: для такого нестоящего занятия, как сон, он не считал нужным снимать книги, а только отодвигал их в сторону. Киреев был здоровый, крепкий человек, но панически боялся ветров и мороза. Если Седюк предлагал ему после работы идти в поселок пешком, он восклицал: