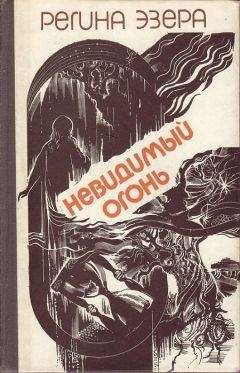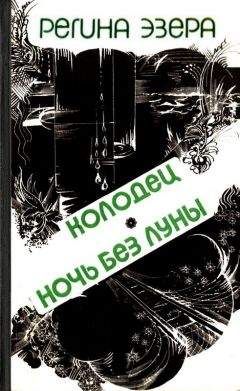Но что можно взять принуждением, силой, присвоить, несмотря ни на что? Вещь, удовольствие… А как и чем купить любовь? Ему казалось, что ради ребенка он готов пожертвовать всем, но на это способна только женщина — он этого не мог. А с другой стороны, можно ли было требовать, чтобы он отказался от Петера, он, у которого только и осталось что изможденное, насквозь больное тело? Мог ли он примириться с тем, что чужая женщина, какая-то Марианна Купен, нужнее Петеру, чем он, отец?
Некому было очертить кавказский меловой круг. Но, может, и это не помогло бы, ведь полное бескорыстие ведомо только матери… И оба они, Марианна и Войцеховский, каждый со своими правами и своей правотой, со своей любовью и своей убежденностью, каждый со своим эгоизмом и своим кретинизмом тащили и рвали Петера в разные стороны, не задумываясь — или не желая задумываться, что так ведь можно и разорвать, не догадываясь — или не желая догадываться, что больно не только им. Что он понимает, ребенок? Что может болеть у ребенка? Разве что живот… Не кричит — значит, не болит.
А Петер?
Подсчитал ли кто-нибудь усилие, с каким цыпленок продалбливает скорлупу или с каким лопается почка? Или же энергию, с которой плод грибницы, шампиньон вспарывает асфальт? И не могут ли сравниться родовые муки женщины с муками увидевшего свет ребенка?
И каждое утро любого дня
В детстве моем было радостным…
Так бывает только в шлягерах да в туманных, смутных представлениях людей, давным-давно ушедших от него и почти забывших детство — как у них с Марианной… При ней хоть осталась наивная, святая вера, что она делала Петеру только добро. А он, Войцеховский, терзается своею виной и, точно кошка, потерявшая котят, пытается завлечь в свое пустое логово и привадить хотя бы щенка.
Войцеховский встал, подошел к буфету и сделал то, что делал в очень редких случаях: налил в рюмку грамм пятьдесят коньяку и выпил одним духом, не почувствовав ни крепости, ни вкуса. Nihil humani a me alienum puto[11]. Зашагал по комнате взад-вперед, взад-вперед, наткнулся на магнитофон. Захотелось послушать что-нибудь под настроение — Генделя или Баха. Включил. Но лента оказалась не та, и вместо героической музыки органа в квартиру вторглись юные, звонкие, ликующие голоса, они славили старый добрый happy end, счастливый конец, и уверяли, что все на свете хорошо, а будет еще лучше, отлично, превосходно, несравненно.
«Да-та». Так. Черта. «Имя жи-вот-но-го, воз-раст». Черта, Ну и линейка! «Фа-ми-лия вла-дельца, адрес…» Могла бы захватить и свою. Черта. Да разве это черта — как зубами изгрызена. Дальше — анамнез. «А-нам-нез». Опять черта…
— Джемма!
— А?
— Чего ты там карябаешь?
— Дневник разграфить надо.
Дальше.
«Status prae-sens»[12]. Черта, Ей-богу, как курица лапой.
— Тетя Мелания!
— Ну-у?
— У вас нет другой линейки?
— В конторе, может — на столе у самого. За ней идти надо.
Но Мелания была не из ленивых — сходила, разыскала, принесла. И встала у Джеммы за спиной. Черта.
— Совсем другое дело. Хотя бы линии прямые.
«Диаг-ноз». Опять черта…
— А ты прилежная.
— Вы скажете! Мне следовало это сделать давно.
Мелания еще понаблюдала.
— А я думала, ты письмо домой сочиняешь.
Что дальше? А, «ле-че-ние». Потом — примечания. «При-ме-ча-ния». Так. Все. Места для примечаний, правда, как назло, осталось маловато, всего четыре клеточки. Разметить бы сперва карандашом, а уж потом ручкой…
— Ты чего не отвечаешь?
— А?
— Домой, говорю, писать так и не будешь? Я завтра иду на почту, опустила бы и твое письмо,
— Мама и так знает, где я.
— Милые вы мои, да разве это по-людски? «Знает, где я…» Что она там знает? Напиши — хоть увидит, что ты жива.
Джемма, не поднимая головы, усмехнулась.
— А умру, так вы с Войцеховским…
— Тьфу, тьфу, дуреха!
— …вы с Войцеховским отправите письмо; так, мол, и так, с глубокой скорбью и тому подобное — как полагается в таких случаях.
— Да замолчишь ты или нет?
— А пока я жива, не потеряюсь, не иголка.
— Ну знаешь… — вспылила Мелания. — Была бы ты моя дочка…
— И что бы было? — примирительно спросила Джемма и принялась заполнять графы.
«6 апреля». Так. «Хутор Качели…» «Ка-че-ли». Точка. «В. Васар». Точка.
— Я бы не потерпела, чтобы ты играла на моих нервах, душу из меня вынимала!
«Ко-ро-ва Санта. 5 лет».
— Тетя Мелания, точки ставить?
— Вот взяла бы хворостину и такими точками тебе задницу расписала…
— Уже пробовали, тетя Мелания, и отказались… Ну, так надо ставить точки или нет? Хм. Вроде не надо. Значит, не будем. Дальше…
— Чудной ты человек, Джемма, честное слово.
«По словам хозяйки, корова после родов не встает и отказывается от пищи… от пи-щи…»
— Уж какая есть.
«…до родов кормили в основном сеном и комбикормом…»
— Странное слово комбикорм, правда? Комби-корм… У нас в техникуме один преподаватель прямо слюной брызжет, как его услышит… «Что это за комбикорм?! Комбинированный корм». А как его втиснуть в пять клеточек?
— Что втиснуть? — спросила Мелания, думая о своем.
— Ну, комбинированный корм.
Мелания помолчала.
— Ты что-то путаешь, детка.
— Ничего не путаю.
— Бросай это, иди лучше поешь. Я отварила картошки. И простокваша есть.
«…у основания конечностей и рогов сильно понижена температура. Пульс — 40 ударов в минуту…»
Надо собраться и купить наконец собственные часы. А то как нищенка — вечно одалживаешь. Не брать же с собою в колхоз большой будильник!..
— Оставь это! Картошка стынет.
— И за вашу картошку, тетя Мелания, спасибо, но я есть не буду.
— Помилуй, это почему?
— Потому что считается — я тут на своих харчах. И не могу…
«Диагноз: молочная лихорадка». Так. Теперь «лечение».
— …и не могу без конца питаться за ваш счет. Точка.
— Какое это питание? Если б еще жаркое, а то картоха, которая все равно…
— В принципе разницы нету — картошка или жаркое. Сегодня я купила хлеба и салаки. Чем плохо — хлеб с салакой? И к тому же вчера осталось масло. Сейчас кончу, и мы можем вместе покушать.
— Как же это вместе, если ты свое, а я свое?
— Обыкновенно.
— Как будто повздорили, да? Как будто сцепились и поцапались? Да у меня в погребе стоит и прорастает целых два мешка. Кто их умнет, если уже весна и скоро будет молодая картошка? Куда ее девать? Свинью я не держу. Куплю аппарат и начну гнать самогон? А на одной сухомятке ты…
— Тетя Мелания!
— И слушать не хочу. На одной сухомятке желудок у тебя ссохнется, с наперсток станет и прирастет к хребту, вот увидишь. Я работала в больнице и знаю, отчего бывают все желудочные хвори.
— Ой, тетя, не обижайтесь — вы мне ужасно мешаете. Я, кажется, в рецепте напутала. Сейчас кончу.
Мелания нехотя замолчала, однако не ушла, а Джемма еще раз строчку за строчкой перечитала:
«R. Sol. calcii chlorati 10 % — 200,0
Sol. glucosae 40 % — 150,0
M. F. Solutio.
D. S. Intravenosi».
— Надеюсь, я не наврала… А то опять влетит от Войцеховского… Все? Теперь все. Ах нет, еще подпись.
Так, наконец все.
— Когда же это он тебе хотя одно словцо плохое сказал? Или выругал? Накричал?
— Хуже того. Он разговаривает со мной как с глупым ребенком! Да еще так спокойно и вежливо — дескать, стоит ли из-за нее портить себе нервы.
— А кто же ты, если не ребенок? В восемнадцать-девятнадцать-то годков?
— Мне скоро будет двадцать один.
— Велика разница!
— Еще какая.
Джемма закрыла дневник и спрятала в ящик.
— Ты что же, в техникум пошла после средней школы?
— Не совсем. Промучилась девятый класс. И чуть не две четверти десятого. Но захотелось быть самостоятельной, независимой. Пошла работать. Потом передумала и поступила в веты.
— Самостоятельной… Ходить на танцульки и покупать импортные тряпки…
— Не только.
— Джемма!
— Ну?
— Ты что-то от меня скрываешь, золотко.
— Скрываю? Что именно?
— Вот не знаю. Но ты о себе ничего не рассказываешь. Каждое слово хоть клещами вытягивай.
— А вы? Вы что, открываете душу первому встречному?
— Как это понимать — первому встречному?
— Ах, тетя, ну чего мы спорим! Хотите, я вам лучше что-нибудь спою?
— Споешь?
— Ну да. Знаете, недалеко от нас, где я живу, строили мост. Среди рабочих были и украинцы, белорусы. По вечерам они пели. И мне нравилась одна песня. Я уже не помню всю — отдельные строчки.
— Ну-ну?
— Не знаю только, поймете ли вы, — усомнилась Джемма. И запела:
Кому были горенька да печаль…
И Мелания, которая была мастером чуть не на все руки, а в языках была слаба — слаба, и все тут, — действительно не поняла ни слова и только слушала Джеммин голос, а голос был высокий и девичьи чистый.