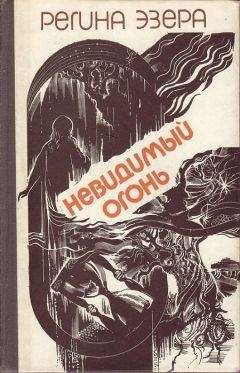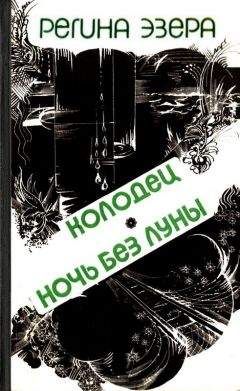На дорогу, чуть не перед носом машины, вымахал заяц, и Войцеховский автоматически нажал тормозную педаль, надавив одновременно пальцем кнопку сигнала. Газик вздрогнул, подпрыгнул и, взметнув два огромных водяных веера, с шумом врезался в большую лужу. От резкого торможения Джемму толкнуло вперед так внезапно и сильно, что она чуть не стукнулась лбом в ветровое стекло. Задремала, что ли? Или вообще с замедленной реакцией? Интересно, как она водит машину? Сами по себе «права» еще ничего не значат.
Он опять искоса взглянул на нее. Нет, спать она вроде не спала, но и не так уж далеко было до этого — наверно, просидели они с Меланией до полуночи: настоянная водка и блины, пасьянс и душещипательные истории, верная любовь и подлецы мужского пола. Чтобы представить себе, как прошел вчерашний вечер, поистине не надо много фантазии. Все это он может вообразить довольно точно. Его это, к счастью, не касается, ему до этого нет дела. Пока не начнутся сплетни и толки, не пойдут намеки и жалобы — o, szczeście![8] — он волен не знать, не ведать, что происходит под крышей ветеринарного участка, в так называемых жилых апартаментах. В противном случае — do diabla![9] — он будет вынужден заниматься тем, чего терпеть не может, то есть «принимать меры»…
Опять зевает!
Ей-богу, она могла бы это делать не так откровенно — чуть ли не демонстративно. И хотя Войцеховский решил без особой нужды не вступать в разговоры, он все же не удержался и, откашлявшись, сказал:
— Вчерашний банкет у Мелании, наверно, затянулся…
— До половины первого… А что?
О, какая воинственность! Как будто бы он нападает, а она вынуждена и готова занять оборону. На ее скверной фотографии на «правах» фотографу, видно, все же удалось схватить какую-то характерную черточку.
Заметив взгляд Войцеховского, Джемма резковато бросила:
— Не понимаю, что тут смешного. Ну, посидели.
— Могу поспорить, что Мелания потчевала вас не только своими фирменными блюдами и напитками, но и духовной пищей. Я угадал?
— А что тут плохого, что Мелания пишет стихи?
— Ничего плохого, упаси бог! Это даже модно. Про любовь и ее, увы, непостоянство, про жизнь и ее, увы, неизменно летальный исход. Да, и, конечно, об охране природы, как сейчас принято. — И, неожиданно вспомнив неизвестно откуда взявшийся стишок, он весело отчеканил:
Я природу
Уважаю,
Пузом кверху
Обожаю.
— Вы смеетесь над всеми и надо всем! — горячо воскликнула Джемма. — Издеваетесь… даже над поэзией!
— В каком-то смысле вы правы, — примирительно сказал он, — поэзию я в самом деле не люблю.
Ну, с любопытством ожидал он, что за этим последует? Намек на его, так сказать, духовную неполноценность, ведь он осмелился — ах, какое преступление! — публично отрицать поэзию. Нет, обошлось. Не хватило духу ответить или же до этого не додумалась? Сидит опять молча — тем лучше. И кто его тянул за язык, зачем вообще было начинать? Но сперва откровенная зевота, а потом столь же неприкрытая воинственность — его так и подмывало подразнить, поехидничать. Третьесортные вирши старой рифмачки Мелании нашли, как видно, благосклонный прием и пылкую защиту. Будем надеяться, хоть бальзам вызвал меньше восторгов — человек должен быть оптимистом и всегда верить в лучшее… Ну, так ничего и не скажет? Примирилась? Надула губы? Ни звука. Только заметно: тайком изучает его профиль. Извольте, не возбраняется — если выражение его лица может служить источником информации, что весьма сомнительно…
— Доктор!
Ага, подает признаки жизни.
— Слушаю вас.
— Я знаю, что вы… вы смеетесь и надо мной и меня вы очень не хотели, но…
— Но?
Молчание.
Она ждет, что он станет отрицать? Или невинно удивляться — как можно! И с чего-де она взяла, откуда… он же с дорогой душой… с распростертыми объятиями… Но какая ему нужда разыгрывать из себя дурачка или дамского угодника, да и что тут отрицать или скрывать — да, не хотел.
И, откашлявшись по привычке, он сухо сказал:
— Если вы в течение суток успели собрать столь обширную информацию, то не сомневаюсь — вам известны также причины моих взглядов. И вообще… — Он помолчал, с неудовольствием воображая, чего только и в каких выражениях не наплела Джемме эта сорока Мелания. — Да, и вообще мне хотелось бы, чтобы впредь мы получали сведения друг о друге не окольным, а прямым путем. Если есть неясности, пожалуйста, спрашивайте. А я буду спрашивать у вас, если понадобится. А в тех случаях, когда нам покажется это неудобным, мы, даже при минимальном чувстве такта, я думаю, без особого труда поймем, что суем нос не в свое дело. По-моему, это избавит нас от возможных недоразумений в нашей совместной работе и будет приемлемо для обеих сторон. Ваше мнение?
Итак, предлагалось джентльменское соглашение и мирное сосуществование — именно так воспринял бы это всякий нормальный мужчина, однако поди узнай, какое толкование может измыслить взбалмошный женский ум.
Но она только сказала:
— Я ни о чем не расспрашивала.
— Благодарю. Постараюсь отвечать тем же.
Войцеховский подрулил к крыльцу ветучастка, чтобы высадить ее у самой двери. Она вышла, но помешкала дольше, чем необходимо, чтобы захлопнуть дверцу. Стояла, глядя на Войцеховского. Хотела что-то добавить в свое оправдание? Или ждала указаний?
— Завтра в пять, — коротко сказал он, но Джемма не ответила — стояла и смотрела.
Ну, что еще, что она хочет добавить? Они же выяснили отношения.
Он подождал — ни слова.
При чем тут добавить? При чем выяснение отношений? Наверно, ее просто не держат ноги. Вся ее тонкая девичья фигурка в мутном отсвете газика сгорбилась от непомерной, до отупения тяжкой усталости. И с Войцеховским произошло то, чего он, зная свой характер, пуще всего боялся: в нем шевельнулась жалость и нежность. Он подумал, что надо бы сказать напоследок что-то хорошее, но не находил что. Для похвал пока не было оснований. Делать прогнозы казалось ему несколько преждевременным. Главное сейчас — как следует выспаться, но это она сделает и так, без напоминания и указания сверху.
— Всего хорошего, — сказал он, и она тихонько отозвалась из полутьмы:
— До свидания.
Так, наконец он один. Он тоже, по правде сказать, устал как собака. Теперь домой, домой…
Не успел он, однако, проехать и пятидесяти метров, как заметил Алису. Она шла по обочине с сумками, наверное с автобуса, и в свете фар он увидел, что одета она не по погоде — то ли в зимнем, то ли в осеннем пальто, слишком темном, слишком тяжелом и длинном, и пальто делает ее фигуру грузной и неуклюжей. Виною, возможно, было не пальто, а скользкая дорога или увесистая ноша, или же просто время. И когда он притормозил и поравнялся с Алисой, он понял, что причиной тому действительно время и Алиса понемногу стареет. И ему пришло в голову, что она, очень возможно, думает то же о нем, ведь годы не пощадили их, ни того, ни другого, и только Петер был как бы вне времени…
Войцеховский остановил газик, сам не зная зачем и что собирается сказать Алисе. Но когда она с надеждой взглянула на него, он догадался, что она ждет от него вестей о Петере, и еще до него дошло, что и сам он остановил машину затем, чтобы узнать что-нибудь от Алисы. Но они и без слов оба поняли, что новостей никаких нет и ничего тут не поделаешь. И Алиса с душевным тактом избавила его от того, чтобы высказать это вслух, а Войцеховский со своей стороны — Алису, они как бы старались щадить друг друга, эти столь разные люди, которых связывало только одно — они оба любили Петера. И Алиса сказала, что на ферме ей дали выходной и она ездила в Ригу, а он сообщил, что возвращается из школы механизации, ведь при встрече — так уж водится — надо о чем-то говорить. Они не жаловались ни на что, не сетовали. Но, как и всегда при встрече с Алисой, он испытывал грусть. И очень возможно — Алиса тоже. И еще он предчувствовал, что весь вечер ему будет грустно, и тут никакая святая вода не поможет, и столь желанное одиночество будет душить его, и тут ничего не попишешь…
Они коротко попрощались. Войцеховский поставил машину и медленно и устало, прихрамывая больше обыкновенного, направился к дому.
На крыльце кто-то сидел.
— Ты, Атис? — узнав, окликнул он.
— Я.
— Что ты тут впотьмах делаешь?
— Принес Нерону кости.
— А он тебя, что ж, не пускает?
Мальчик засмеялся.
— Ну, мы сейчас это дело поправим, — сказал Войцеховский и полез в карман за ключами.
Достал, отпер дверь.
— Прошу.
И пропустил Атиса вперед. Нерон с визгом кинулся навстречу, и мальчик обнял собаку и, сияющий, стал гладить и ерошить ей серую шерсть. А Войцеховский смотрел на детский затылок, и из его разворошенных воспоминаний снова всплыли мысли о Петере, которому он был безразличней чужого человека.