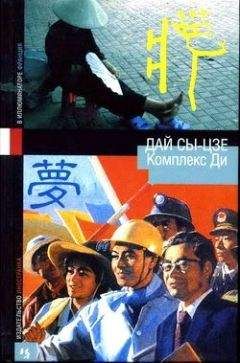Проснулся Алексей Петрович от раскатов грома, раскатов протяжных и гулких, какие бывают при летней грозе. Раскаты грома были все ближе и ближе, наконец ветер зашумел в деревьях, а в окне свет и вовсе смеркся, так что невозможно было понять, вечер за окном или утро. Сорванные ветром листья и ветки стукали в тонкие стенки и окна, а на какой-то миг все потемнело от поднятой ветром пыли. И вот когда казалось, что сейчас буря сорвет крышу, ударил такой раскат грома, что земля содрогнулась, озарившись голубой вспышкой молнии. Молния ударила где-то совсем рядом, может быть, по стальной трубе телевизионной антенны, которую умный Дима соорудил подальше от дома. И ветер присмирел, испугавшись грома, а тут ударили по крыше и первые капли. Гром еще раз ударил над головой, но уже не так сильно, а дождь усилился, а потом хлынул настоящим долгожданным ливнем. Перед окном беседки образовалась ломкая стенка из потоков с крыши, и в этой водяной катящейся стенке блескуче играли вспышками золотые молнии.
Алексей Петрович сел в кровати, смотрел на эти вспышки и чувствовал, как в него вливается бодрость. И уже не ныла поясница, не болели ладони и сама душа, как будто омытая ливнем. И рождались в ней новые надежды, новые, как утро, как песни жаворонков. И казалось Алексею Петровичу, что та разумная, светлая жизнь, о которой он когда-то давно мечтал, только еще начинается.
А вокруг лился долгожданный дождь, лился на высохшую, потрескавшуюся от долгой жары родную землю.
Павел Семенович ходил вокруг машины и пинал скаты. Я помалкивал. Мне ведь тоже не особенно хотелось ехать, но в пятницу позвонил Пирогов из Вырасар и говорит: «Приезжай за моторами». От такого сообщения я потерял дар речи, а потом тихо так спрашиваю: «Это за какими моторами?» — «Да за теми самыми!» — отвечает и смеется. Тут у меня сердце запрыгало от нежности к Славке, и я сказал: «Слава, благодетель ты мой, отец родной, огурец ты малосольный!..» Да и как было тут удержаться? Ведь еще где-то летом, когда начали в колхозах работать эти агрегаты по производству травяной муки, меня замучали аварии — то и дело горели моторы. Наконец дело дошло до того, что два агрегата остановились совсем — моторов уже негде было достать, и хорошо еще, что на заводе у Славы Пирогова, моего институтского друга, удалось эти моторы перемотать. В это же время мы как раз получили по наряду коленвалы к двигателям, и когда открыли ящики, то вместо коленвалов там оказались штампованные заготовки для этих коленвалов. Что было делать? Колхозы требуют свои трактора — им надо пахать зябь, а мы не можем эти трактора починить. Конечно, безвыходного положения нет, я поехал в Чебоксары и через близких людей что надо раздобыл, но все это меня почему-то так вымотало, что мне вдруг своя контора, свой кабинет с широким окном во двор мастерских показались какой-то ловушкой. Я, помнится, тогда и спросил Славу: неужели такое положение неизбежно и на будущий год будет так же? Он засмеялся и сказал, что на будущий год он запасет для меня моторы. Это было сказано шутя, я не придал его словам никакого значения. И вот вдруг звонок! Как же тут было не обалдеть? Во-первых, сами моторы, а во-вторых, такая верность слову, такая дружеская привязанность… Нет, этого, пожалуй, даже много, чтобы пережить похмельное ворчание шофера, пусть даже самого нашего лучшего шофера Павла Семеновича, или просто Семеныча, как мы его зовем.
— Работа чертова! — ворчит Семеныч, обстукивая снег с валенок. — Ни праздника тебе, ни выходного…
Я тоже обстукиваю снег со своих сапог и залезаю в кабину. В кабинке холодно, неуютно, но я не обращаю на это внимания. Да и что же мне остается делать?
Семеныч залезает в кабину, подтыкает под себя полушубок, кряхтит, явно ожидая каких-то моих слов, чтобы к ним прицепиться, я — помалкиваю.
Натужно завыл стартер, завыл со скрипом и стоном, однако мотор не завелся. Я хмыкнул: вот, мол, лучший шофер, а машина с пол-оборота не заводится! Семеныч насторожился, косо на меня глянул. Правда, со второй попытки мотор завелся, и мы поехали. В конце концов, что же злиться и ворчать? Разве он не знал еще в пятницу, что мы сегодня, в воскресенье, поедем в Вырасары? Сам ведь и согласился, стоило мне только сказать: «Не хочешь ли, Семеныч, в воскресенье к матери скатать?» Я знал, что у него мать там живет. И он долго не думал.
Конечно, теперь я не буду напоминать ему об этом, пускай поворчит, если ему так хочется. Мы уже выезжали с нашего двора и остановились перед воротами, как Семеныч опять сказал сердито, но вроде бы в свое оправдание:
— Вчера я во сколько приехал с рейса? В семь вечера? А какая погода была?..
Была метель, я до сих пор еще слышу тот вой ветра в трубе и сыпучие удары снежных зарядов по окну, шорох за стеной… Не знаю, почему вдруг вечера, особенно в непогоду, стали мне так тяжелы? В прошлую зиму такого не было.
— Тонн десять снега лопатой перекидал, пока на шоссе выбрался. Знаете, где от фермы на шоссе поворот?
Я кивнул, хотя, признаться, забыл, куда вчера ездил Семеныч. Кажется, в «Рассвет» отвозил токарный станок, который мне удалось раздобыть — списали на авторемонтном…
Ворота медленно отворились ровно на столько, чтобы можно было нам проехать. Вахтер, милиционер на пенсии, работает у нас первый месяц и поэтому к шоферам строг не в меру: когда выпускает машину в рейс, то так и норовит каждого понюхать — не выпил ли? Но тут он увидел меня сквозь большое чистое стекло проходной, улыбнулся как единомышленнику и соратнику и не вышел проверять путевку. Шоферы его не любят, вот и Семеныч ворчит:
— Чертовы пенсионеры, им в каждом шофере калымщик мерещится…
Но, признаться, я доволен, что у нас такие вахтеры. Кроме этого, есть еще двое, и тоже милиционеры на пенсии. Да еще бы у нас не работать! С тех пор как поставили новую проходную — что капитанский мостик! — и механизировали ворота, у нас отбою нет от пенсионеров, желающих поступать к нам в вахтеры. А шоферы недовольны придирчивыми вахтерами, недовольны, что те записывают время выезда и приезда каждой машины, хотя на это есть и диспетчерская. Однажды и на собрании поднялся шум: недоверие, двойной контроль и так далее. Но я помалкиваю, ведь кашу маслом не испортишь. Да и при чем тут я? Приказа вахтерам вести учет машин я не издавал, это их самодеятельность. И сам я лично никогда еще не пользовался теми тетрадками, где они пишут. Мне кажется, такой учет вахтеры завели для собственного удовольствия — скучно же сидеть в теплой будке и глазеть на небо… Бог с ними, все это мне совсем неинтересно.
Проезжая мимо нашего дома, я посмотрел на свои окна во втором этаже. Не знаю, для чего это сделал. Чтобы лишний раз увидеть там эти проклятые пожелтевшие газеты вместо занавесок? Кто бы мне их повесил?..
По обочине замелькали березовые посадки, потом широко разметнулось ровное поле и ослепило искристой белизной. Чебоксарское радио обещало к вечеру тридцать градусов мороза. Видно, к тому идет дело.
Но в кабинке уже стало тепло, морозное кружево на стекле расходилось, истаивало под напором теплого воздуха, — печка у Семеныча работала превосходно. Впрочем, у него все работало превосходно, не только печка. Да и сама жизнь его, весь бытовой уклад, насколько я слышал, были отлажены как часовой механизм. Нет, это не отдавало казармой, каким-то порядком, утвержденным сильной волей, — нет, все у него строилось в жизни на добром согласии. Все мирком да ладком: жена, дети, какое-то маленькое полукрестьянское хозяйство с огородиком, где растут лук да морковка, и оно для удовольствия больше, чем для прокормления, в доме тепло, чисто и уютно и, главное, та ласковая и добрая атмосфера, какой я давно уже не встречал… И вот иногда погляжу я на Семеныча, и невольно приходит в голову мысль: человеку жизнь в удовольствие, в радость! И отчего-то так тоскливо стеснится у меня в груди, точно я люто завидую этому. Но я не знаю, хотел ли бы я такой именно жизни. Единственное, что прельщает меня здесь, так это тот душевный покой, душевное здоровье, какое я вижу в нашем Семеныче. И то, что сегодня он с похмелья, странно. Но я не спрашиваю. Дорога еще длинная, и я уверен, что Павел Семенович и сам разговорится.
Так оно и вышло. Не проехали и пяти минут, как Семеныч закряхтел, завздыхал и признался:
— Мне это самое похмелье хуже всякой болезни, характер аж меняется… И дома поскандалил…
— Да, заметно, — сказал я.
— Потому я и выпиваю редко.
— Это я знаю.
— А как я женился, знаете? — спросил он вдруг.
Я пожал плечами. Откуда же мне знать? Единственное, что я знал о его прошлой жизни, — это то, что Павел Семенович успел повоевать, да не как-нибудь, есть даже медали. А то, как он женился, этого я не знал. И что тут может быть за секрет? Вот я и пожал плечами.