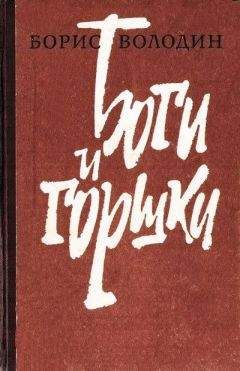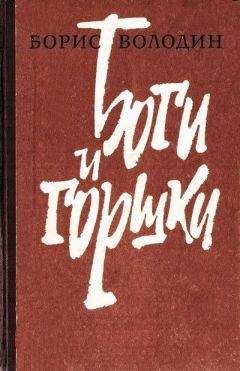Сначала Надя заколебалась. Потом решила, что Шарифов специально задержался, чтобы она понервничала подольше и сдалась. Потом она решила все-таки еще подождать.
Автобус уходил в восемь. Он останавливался в трех километрах от Белоусовки: чинили мост.
Тетя Глаша теперь то выходила куда-то, то возвращалась к ней в комнату, и охала, и, нарушив данное слово, говорила, чтоб она не ехала — нельзя так. И еще говорила, что больше за лошадью не пойдет.
В четверть восьмого Надя ждать перестала. Сказала, что отправится с вещами пешком, но санитарка, оказалось, выпросила лошадь у бригадира — на случай, если ей не удастся Надю уговорить. Когда вещи клали на телегу, подошла Лида, операционная сестра.
— Едете?
— Да, Лидочка. Всего доброго, — коротко ответила Надя. Ей всегда трудно было говорить с операционной сестрой. Уж очень ревниво смотрела Лида на Шарифова, а Надю приняла в штыки сразу, как она приехала и Шарифов стал показывать ей операционную.
Операционная была маленькая, уютная, чистая. Стоял в ней приобретенный с невероятной борьбой аппарат для газового наркоза, висела новая бестеневая лампа. Но, конечно, на операционные клиники, где Надя только перед этим училась, она походила мало.
Владимир Платонович питал страсть ко всяким приспособлениям. Он тогда расхвастался:
— Смотрите, холодильник новенький, «Газоаппарат», это для крови… А этот бачок — мое изобретение: в водопроводе вода только холодная, а мы руки моем горячей. Видите, от бачка идет в стенку трубка. Там горячая вода смешивается с холодной и через кран льется на руки. Можно регулировать — потеплее, похолоднее. А в бачок наливают воду из кипятильника, ведрами… А вот для электроножа мы сделали под полом проводку от аппарата прямо к операционному столу…
Надя улыбнулась.
— Вы как помещик хвастаетесь.
— Вам хорошо смеяться, — неожиданно рявкнула на нее Лида. — Приехали на готовенькое!
Лида была тогда вся как кумач.
Так и дальше пошло.
Специализацию по глазным болезням на шестом курсе Надя проходила у знаменитой Плетневой. Она почему-то приглянулась профессору, и Плетнева разрешала ей много больше, чем другим субординаторам, часто ставила на свой операции и хотела зачислить в ординатуру в своей клинике, — комиссия по распределению заупрямилась. Пока очередь дошла до Надиной группы, получилось, что в Москве остается слишком много выпускников, а Надя к тому же была тогда незамужней.
В Белоусовке глазных операций было мало, но общей хирургии много — Шарифов просто задыхался. А у Нади после клиники руки уже чесались, как у всех молодых врачей, постоявших немного у операционного стола, — у них появляется какая-то детская гордость не только за каждую сделанную, но даже за увиденную операцию. И она много говорила о разных операциях, хотя у стола чувствовала себя еще неуверенно, конечно.
В институте вместе с Надей всегда оперировал педагог, он попросту диктовал, что нужно делать. В сельской больнице хирург, как правило, работал без ассистента, только с операционной сестрой. Шарифов, сколько был в Белоусовке, оперировал с Лидой. Лида знала каждое его движение и ощущала себя почти равным партнером. А тут он стал ставить ассистентом Надю, и все прежнее разрушилось. Потом уже Шарифов стал ассистировать Наде. Правда, если на операции случалось что-нибудь трудное, они менялись местами. На обычных хирургических операциях ассистент стоит чаще слева от больного, хирург — справа. Кто справа, тот и отвечает за операцию. И если у Нади получалась заминка, он говорил: «Переходи на мое место. Я встану справа». Глазную хирургию он тоже немного знал, да и вообще-то был опытнее. Он учил Надю всему, что умел, — правда, чаще ненужному для окулиста. Даже верхом обучал ездить. И в операционной местами они менялись все реже и реже. А потом она уже стала оперировать без него, с Лидой. Но она оперировала очень медленно. И Лида всегда ворчала, даже не было понятно, что заставляет ее ворчать:
— Не за свое дело беретесь. Вы глазник и знайте лечите глаза. Толку-то от вас — аппендицит за час с четвертью! У меня рабочий день до полчетвертого. Все брошу и уйду. Здесь не училище.
А еще Надя на операциях слишком много говорила, чтобы подбодрить себя, и вспоминала институтские клиники. И Лида взрывалась из-за этого:
— Москва!.. В Москве!.. Этак с разговорчиками оставите инструмент в полости… У вас левая перчатка прохудилась. Смените.
Шарифов, когда она оперировала, вместо того чтобы заниматься другими делами, то и дело заглядывал в операционную. Сначала объяснял, что нужно проверить, как работает автоклав, стоявший у дверей снаружи, или выяснить, когда был простерилизован шелк. Потом — уже без предлогов — сидел в углу на табурете, поглядывал издали да временами подсказывал. В больнице все говорили, что Владимир Платонович очень утомился за последнее время и стал непроизводительно расходовать рабочие часы.
Через год, когда они поженились, разговоры умолкли. Ведь одно дело, если главный симпатизирует молодой девице-врачу, и другое дело, если он печется о делах своей жены.
Только Лида по-прежнему оставалась резкой. Правда, немного менее резкой. Просто она старалась ничего Наде не говорить. И здоровалась хмуро.
И Наде было особенно неприятно, что именно сейчас, когда вещи уже лежали на телеге и любому ясно — все у них с Шарифовым рушится, именно Лида очутилась почему-то на больничном дворе спозаранку.
— Едете?
— Да, Лидочка, всего доброго.
А дальше произошло странное.
Лида, наверное, не понимала, что говорит.
— Ума лишилась! — чуть не крикнула она. — Куда ты? От счастья ехать!
У нее язык заплетался, как у пьяной. На «ты» она никогда не была с врачами. Наде стало страшно. Она с трудом удержалась, чтобы не закричать: «Вам что за дело!»
— Не судите, Лидочка, — сказала она. — Все слишком сложно.
Лида что-то бормотала. Надя сказала с надсадой:
— Не понимаю, не слышу. Ну что?..
— …Владимир Платонович просил передать, чтоб его дождались… Меня просил. По телефону. «Она, — сказал, — уехать может… в отпуск…» А мне: «Поговорите, — сказал. — Вы в операционной первый друг. Вот и помогите». Все знают, что не в отпуск…
Надя засуетилась и села на телегу.
На этой телеге накануне возили кирпич. В автобусе — потом — укачало. Близ станции Надя, стараясь прийти в себя, долго и тщательно отряхивала с плаща и портпледа въедливую рыжую пудру.
На этой станции, оказывается, не продавали плацкартные билеты. Московский поезд вечером. День тянулся медленно.
Рядом с Надей на деревянном жестком диване с вензелем «МПС» сидел и ждал поезда пожилой офицер в зеленой брезентовой накидке. Надя боялась, что он будет разговаривать с ней, и очень внимательно разглядывала вензеля на диванах впереди, справа и слева. Но он молчал. Потом предложил леденец: «Я курить бросаю». Надя из вежливости взяла конфету. Есть не смогла и сунула в карман.
Через полчаса офицер сказал:
— У вас настроение плохое, попутчица. Разговаривать вы не хотите.
— Да, — сказала Надя.
— Я тоже, — сказал офицер. — Я мать хоронить ездил… Пойду все-таки покурю. Посмотрите за моим чемоданом. Вернусь — вы погуляете.
Навалилась усталость. Надя дремала, примостив голову и руки на чемодане, поставленном на скамью. Она видела каменистый обрыв, сверкающую на солнце реку и белые домики больницы. Старый лохматый меринок Ландыш хитро заглядывал ей в глаза и тоненько ржал, встряхивая рыжей гривой. Шарифов хлопнул по седлу, сложил руки в «замок», подставил их: «Прыгай!» Надя оказалась в седле. Ландыш дернулся. Надя потеряла равновесие и с грохотом упала… Мимо станционных окон мелькали товарные вагоны. Болела рука. На предплечье краснел отпечаток ручки чемодана.
Офицер сосал леденец. Сказал с угрюмой улыбкой:
— Плохой вы сторож. Идите погуляйте.
Надя послала телеграмму подруге. Пусть она встретит. Мама с утра на работе. А подруга всегда сумеет отпроситься.
Она вышла на платформу. Солнце село. Ветер слабый. В небе еле движутся на закат облака — фиолетовые, малиновые, золотистые. За станцией виден овражек, пересеченный насыпью. Сверху, на насыпи, — длинные холодные рельсы.
В овражке, на дне, — туман. Его протыкают голые ветви кустарника. Через булыжную дорогу перекинут шлагбаум. В той стороне ползает по стрелкам паровоз. Вскрикивает временами, словно прищемил что-то.
Она представляла себе, как утром будет в Москве. Подруга вытаращит большие, навыкате, телячьи глаза. Ее зовут, как корову санитарки тети Глаши, — Милкой.
Она скажет: «Наконец дома, наконец начнешь жить по-настоящему».
…Ремни носильщиков щелкают, как пастушьи кнуты. Носильщики кричат: «Поберегись!» — и толкают приехавших и встречающих. На вокзальной площади троллейбусы высекают искры из проводов. Шоферы голосят: «Кому на Киевский?»