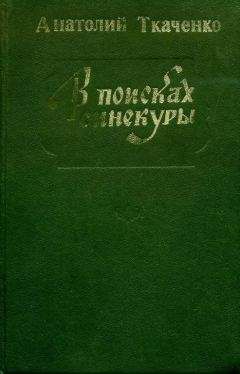Хозяин говорил, хозяйка истово нагружала стол всяческой едой, закусками. И какой красоты получался стол, какого запаха, разноцветья! Белая капуста, красные помидоры, зеленые огурцы, желтые маринованные маслята, сало, окорок, горка яиц, тушеная говядина в эмалированном чугунке... А вот и картошка прибыла, главное блюдо российского стола — искристо-крахмальная, жарко дышащая паром, пригодная к мясу, грибам, капусте, прочим солениям; без нее — стол сирота, без нее богатая ресторанная еда — казенная. Хозяйка вознамерилась и гуся принести, чтоб уж воистину стол ломился, но хозяин радушно придержал ее: главное горячее пусть греется, чтоб гостя на дорожку согреть.
Гость же сидел смущенный и только смотрел, слушал, дивился простоте этих людей, обильному угощению, спрашивая себя: за что столько внимания, ласки, душевности? Ведь они не знают его, а он, пришедший из иной жизни, с иными правилами дружбы, общения, не может, не умеет вот так, как они, распахнуть объятья, породниться с первой встречи: ледок самообережения, эгоистичной обособленности в нем лишь подтаял, растопится ли вовсе — покажет время, эта новая его жизнь, которая понадобилась ему не для выгоды или удобного устройства.
Он сказал, широко поведя рукой над столом:
— Такой пищи и столько сразу я не видел никогда.
— Добро живем, — не совсем понял его дед Улька. — В нашем деле как? Здоровье уберег до пенсии — обеспечишь себя, если не лодырь. И колхозу поможешь, и на рынок трудящимся кое-что вывезешь. Излишки, понятно, без спекуляции, наемной эксплуатации.
Ивантьеву подумалось, что хозяин вроде бы отчитывается перед ним: мол, не сомневайся, честно все, по закону, а излишка не имеет только плохой мужик, коему и числиться в деревне зазорно. Он покивал, соглашаясь, коснулся ладонью плеча хозяина — о, под сатиновой рубашкой была горячая, упругой крепости сила! — улыбнулся, проговорил:
— Верю. Спасибо.
— Тогда по рюмочке, Евсей Иванович. Пробуй, как я. — Улька взял яйцо, сырое, розово засветившееся под люстрой, ударил по нему ножиком, счистил верхушку, выпил «нежинскую», запил нежным, свежим, прохладным яйцом. — Пробуй, оцени. С такой закуской пьяный не будешь. У меня так: сколько рюмок — столько яиц.
Восхитился Ивантьев сочетанием рябиновая — яйцо, не оставившим во рту спиртного запаха, и ел капусту, грибы, другие соления, ощущая их естественный запах, вкус. Дед Ульян поглядывал на него, радуясь его радости, звал жену Никитишну полюбоваться дорогим гостем, пригубить за его здоровье и поселение в доме отца и родного деда, потом стал просить Ивантьева рассказать о море, а главное, много ль рыбки из соленой воды выловил.
Ивантьев собрался рассказать о белых ночах на Белом море, сонной белесой воде, вспыхивающих фольгой и фосфором рыбьих косяках, когда живешь, мыслишь, работаешь будто в бесконечном полусне, и замирают чувства, ощущения, и сердце бьется медленнее, и сам пустеешь, точно теряя земное притяжение, высыхая телом, а крикнешь — голос твой, по-птичьи истонченный, падает вниз, к воде, глохнет, тонет, и тоска, такая белая, мглистая тоска заполняет душу, что вспышки фольги и фосфора пугают до холода в крови, как разверзающаяся бездна живых, все пожирающих пучин... Но дверь горницы приоткрыл бородатый детина с бурым, задубелым на ветру лицом, непокрытой, встрепанной желтовато-русой шевелюрой, в свитере, потертых джинсах, исподлобья зыркнул просторными серо-зеленоватыми глазами и сказал медленно, словно давая время оглядеть себя:
— Здравствуйте, и извиняюсь, конечно.
Дед Улька заспешил к нему, взял под руку, повел знакомить с Ивантьевым, наговаривая, что это и есть Федька Софронов, мелиоратор, а детина этакий, сельский молодец, спокойно, как бы с ленцой, объяснял:
— Приезжаю, умываюсь, Сонька говорит: моряк гостит у Малаховых. Японский бог, думаю, опередил Ульян. Сам собирался зайти, моряк моряка должен узнавать издалека. Я, правда, в Морфлоте отплавал срочную, а все-таки моря Японского понюхал, да в Сибири тумана и запаха тайги прихватил, отогревался потом на строительстве Каракумского канала. Но душа у меня, видать, среднерусская. Хоть детдомом воспитанный, а к земле потянуло, предки, значит, крестьянами были. Так что извините, конечно, зашел познакомиться. Ульян, думаю, позвал бы, да заговорился, имеет такую слабость мой сосед Малахов, а исправляться не собирается, придется и его как-нибудь по праздничному случаю позабыть.
Дед усаживал Федьку, хлопал его по широченной спине, восторгался его неспешной, толковой речью, явно хвалился перед Ивантьевым своим молодым могучим другом.
— Шутит Федя, шутит! Мы с им — как родные, без приглашений всяких друг дружку любим. Что ко мне, что к нему — в любой час. Это он перед гостем деликатничает. Ну, штрафную, Федя? Тем более — разговор сурьезный имеется.
Тут же выяснилось: внушительный Федя пьет мало, считает спиртное врагом человечества номер один, пьющих относит к категории низших существ — таких он нагляделся в странствиях северных и южных, — жизнь интересна «без подогрева», найти только в ней свое «законное» место, и жалеет он об одном — что десятилеткой ограничилось его образование, пробродил свой институт, но в технике — автомобилях, тракторах, всякой прочей — разбирается дай бог, инженерам помогает.
Интересен был Федя Софронов — и молодой, и бывалый, и вроде бы в чем-то наивный, и умно рассуждающий — словом, личность, с образом внешним и внутренним, развивающаяся, мыслящая; хотелось говорить с ним, расспрашивать, узнавать этого хуторянина — жить-то придется рядом, — однако явился бывший фельдшер Борискин, худой, согбенный, молчаливый пенсионер; вскоре с шутками-прибаутками ввалилась Самсоновна, сбросила у порога сапоги, телогрейку, швырнула куда-то спортивную шапочку, прошлепала босиком к столу, потребовала стопку «нежинской», нарочито громко обиделась на Ульяна и Никитишну, что не пригласили выпить «встречную», оправданий — мол, случайно все получилось, не готовились, новоселье отдельно отпразднуем — слушать не стала, а Ивантьеву прямо высказала:
— Рази так по-суседски, Евсей не ешь карасей! Рази так делают моряки? Я те визит вежливый — ты мне ответный дай. Сначала с ближней державой наладь отношения, потом дальние посещай!
И завелась гулянка, которая и стала встречей новосела. Пели старые песни, слушали новые пластинки, плясали, осматривали усадьбу Малаховых, дом Феди и за полночь всей компанией отвели Ивантьева домой, где распили привезенную им бутылку коньяку.
Вчера еще кое-где вдоль опушки леса просверкивали последние мелкие одуванчики, ромашки, розоватые свечки иван-чая, а сегодня земля накрылась пухлым нежным снежком, и дед Улька выложил трубу над крышей дома Ивантьева, вернее, дома Защокина — Ивантьева, спустился во двор, помахал окоченелыми руками, потоптался, согреваясь, выкрикнул застуженным хрипотком:
— Добро, Евсей! Ташши какие есть дровишки!
Дрова у Ивантьева были, но пока не пиленные, не колотые — Федя Софронов приволок на тракторе огромные березовые бревна-хлысты, свалил у забора, пообещал прийти с бензопилой, да замотался, видать, на своих осушаемых болотах. Ивантьев нарубил для пробы печи старых досок, сучьев от хлыстов. Внес, положил около чугунной дверцы.
— Присядь, — приказал дед, — помолчим минуту, послушаем, как огонь заговорит. Главное — тяга, дыму легкий ход по колодцам. — Он сложил на коленях руки, сгорбился, чуть пригасил глаза, точно задремал, предаваясь видениям.
Печь получилась внушительной и в то же время аккуратной, почти вполовину прежней — «убористая, как умная баба», сказал о ней сам печник, — с лежанкой для прогрева костей, с плитой «для готовки щей» («На электричестве — тьфу, только консервы подбадривать!»), с обогревательной стенкой в жилую половину, с высокой фигурной трубой «для тяги и оглавления дома». И побелил ее на первый раз печник. По второму, набело, Никитишна подкрасит, подкрасует, когда печь просушится, тепла в себя наберет.
— Ну, курнем за удачу, без перекура раньше к печке боялись подступиться, — кивнул Улька на приготовленную заранее крупную самокрутку с табаком «Экстра», — пусть и у нас качество — экстра будет, чтоб табачный дым не пустил печной в избу. Справим по обычаю, дело-то старинное.
Ивантьев слушал, выполнял все приказания и робел отчего-то, наблюдал суеверный ритуал старика, оглядывая сырое, в пятнах подсыхающей извести, хитро задуманное, изящно выложенное кирпичное сооружение. А если не пойдет дым наружу, в морозный воздух, к небу, хлынет из дверцы к полу, затопит помещение, потечет в форточки — тревогой, пожаром, как, при первой топке? Неудача, позор для мастера? Мастер переможет, перетерпит — все-таки лет двадцать серьезно не касался печного дела, — но где будет зимовать он, Ивантьев? И он потянул в себя табачный дым, не спуская верящих глаз с печного зева, смущенно сдерживая перехвативший дыхание кашель.