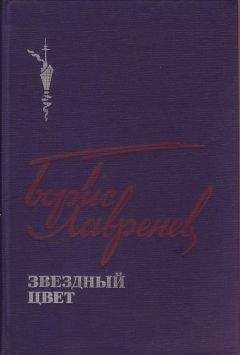Красное солнце глотало верхушки далеких тополей на полях.
Дмитрий шел молча, смотрел в землю и раздумывал.
— Митро! Ты опять засумовав?
Дмитрий поднял голову, пожал плечом.
— Бачь, яка загвоздка вышла. Баева жинка мени кохання назначила о пивночи.
Ковальчук стал пивнем посреди дороги, икнул от неожиданности.
— Не врешь? Як так?
— А так. — И Дмитрий коротко рассказал.
— Так, так… Що ж ты?
— А сам не знаю ще, що робить?
— Опасно з ими! Проклятущий народец! Без башки можно остаться.
— Ну, того я не боюсь. Може, сам кому голову сдыбаю. Тилько б ей не було худо. А пийти — я пиду, бо вона дуже прохала. Надоив ей, мабуть, черный черт, хуже редьки. Треба бабу уважить.
— Что ж, дай тебе успеха да любви.
— А ты, Ковальчук, не смийся, бо тут не жарт який-небудь. Чуяв я, що замучилась баба у бая, вроде скота. Чоловичьей мовы ей треба, щоб побалакать з ей по душам.
— Так як же ты з ей балакать станешь? Она по-русски ни бе ни ме, а ты — по-ихнему.
Дмитрий тряхнул плечом, свистнул и, как бы отгоняя ненужную мысль, сказал:
— Колы кохання, то и слов не треба. Душа душу розумие…
После ужина Дмитрий полежал на нарах, покурил, решительно поднялся и подошел к взводному.
— Товарищ Лукин, одолжи на сегодня нагана.
— Тебе зачем?
— Та позвав мене тут бай один на свадьбу. Так зараз пусти мене погулять, а наган на всякий случай, бо вин за кишлаком в саду живе, ночью вертаться с оружьем способней.
— А если что случится?
— Так коли наган буде, то ничого и не случится. А тилько що ж случиться може, басмачей кругом нема, народ мирный.
— Ну, бери, леший с тобой!
Взводный вытянул из кобуры потрепанный наган и сунул Дмитрию.
Дмитрий посмотрел в барабан, повертел и положил в карман.
В одиннадцать часов он вышел из курганчи и побрел по улице.
Стоял легкий туман, а в нем плавала и колыхалась большая, кривобокая и мутная луна, клонившаяся к закату.
До свидания оставалось ждать добрых два часа.
Дмитрий спустился по узкой улочке к мосту через Чимганку и сел на большом плоском камне у самой воды.
Речка бурлила и кипела полой ледяной водой, хлестала пеной в жерди моста; в воздухе стояли брызги и было мокро и душно от сырости.
Зеленоватым жемчугом переливались снега на Чимганском хребте.
Дмитрий долго сидел, всматриваясь в бегучее кружево водяных струй между камнями, вертевшихся и летевших с неимоверной быстротой, пока у него не закружилась голова.
Далеко из глубины кишлака кукарекнул первый петух.
Дмитрий встал с камня, потянулся и пошел в гору. Перешел вымерший базар. Возле лавок к нему подошла какая-то лошадь, бродившая по площади, ткнулась теплым носом в плечо, обдала пахнущим сеном дыханием и тихо и ласково заржала.
Дмитрий потрепал ее по шее, свернул в знакомую улочку и быстро двинулся к саду.
Сердце с каждым шагом билось гулче и чаще, и в висках стучала кровь, а пересохший язык с трудом ворочался во рту.
Пустырь развернулся справа, темный и таинственный.
Дмитрий шагнул через развалившийся дувал и вдоль линии тополей стал бесшумно пробираться к пролому в сад Абду-Гаме. Пролом зачернел на серой линии дувала рваным пятном.
Против пролома торчал срубленный тополевый пень. Дмитрий уселся на нем, чувствуя странную дрожь во всем теле и сжав в кармане нагревшуюся сталь револьвера.
Опять заорали петухи. Луна совсем ушла за горы, потемнело вокруг, и потянуло холодом.
Шуршали в вершинах деревьев тонкие веточки, и пряно пахли сочные, липкие почки.
Хрустнуло за дувалом. Дмитрий вжался в пень и подался вперед.
Летучая тень метнулась по глине и выросла в проломе. Оглянулась по сторонам, легко прыгнула на пустырь.
— Джигит?.. — расслышал Дмитрий дрогнувший шепот.
— Здесь! — ответил он, поднимаясь, и не узнал своего сломавшегося голоса.
Женщина бросилась вперед, и в руках Дмитрия затрепетало дрогнувшее, обжегшее пальцы тело.
Он растерянно, недоумевающе и неумело прижал ее к себе.
Зашептал бессвязно:
— Ясочка моя, коханая, дивчина моя любая!
Мириам отклонила голову, взглянула ему в лицо черными, бездонными жаркими колодцами, потом обвила шею руками, приникла щекой к щеке и, захлебываясь, забормотала какие-то нежные, трепетные, волнующие слова.
Три ночи сгорели, как отблеск зари на чимганских снегах.
Дмитрий ходил ошалелый, рассеянный, возбуждая крепкий хохот красноармейцев, кое о чем догадывавшихся.
Но ему не было ни до чего дела, и даже днем, когда он чистил коней, упражнялся в рубке прутьев или слушал рассказ политрука, как умирали люди в далеком Париже, защищая первую коммуну, перед ним вставали бездонные глаза и рубином расцветшие губы и заслоняли все и заглушали все.
А ночью знакомая дорога, пустырь и сладкое ожидание.
И каждой ночью до полуночи, покорная, принимала ненавистные ласки мужа Мириам, закусив до крови в темноте губы.
А когда насытившийся уходил Абду-Гаме на балахану и скоро колыхал камышовые маты его храп, она бесшумно вставала, пробиралась невидимой тенью через виноградник к арыку, тщательно смывала с губ, со щек, с груди, со всего тела следы мужниных объятий.
Набрасывала на освеженное холодной водой, воскрешенное тело тонкую рубашку из маты и бежала к пролому.
И там пила без страха, без сомнений свое ночное счастье с белокурым джигитом, крепким, стыдливым и нежным, шептавшим ей такие же непонятные трогательные слова, какие она шептала ему.
Когда кончилась третья ночь и Мириам пробиралась обратно, проснулась у себя Зарра и вышла в сад за обычной нуждою.
И между деревьями увидела скользящий легкий призрак.
Испугалась сначала — не злой ли джин бродит по саду, чтобы наброситься на нее и унести к Иблису, — но в ту же минуту узнала Мириам.
Покачала головой, вернулась к себе и снова зарылась в одеяло.
А утром рассказала Абду-Гаме о странной встрече.
Не из ревности. Любила и жалела маленькую Мириам, но непорядок. Не должна добрая жена ходить ночью по саду неизвестно куда.
Налился кровью Абду-Гаме, свел брови и сказал:
— Молчи!..
Спустилась четвертая ночь.
Как всегда, ушел к себе на балахану Абду-Гаме и поднялась Мириам.
Но вслед за ней тихо слез с балаханы Абду-Гаме и пополз по винограднику.
Видел, как омывалась Мириам в арыке, как пробежала к пролому и исчезла в нем.
Подполз вплотную и заглянул в пролом.
Кровь ударила в голову, задрожали ноги. Схватился в ярости за печак[14], но вовремя сообразил, что с джигитом дело иметь опасно. У джигита, наверно, есть пистолет, и он убьет Абду-Гаме прежде, чем он успеет добежать до изменницы.
Вгрызся зубами в сухую глину дувала, и по губам проступила пена. Но молчал, застыв в напряженном внимании взбешенного хозяина.
Видел, как прощалась Мириам с джигитом Димитрой, как целовала его, как Димитра пошел по улочке к кишлаку и Мириам смотрела ему вслед.
Грустно опустила голову и тихо, легко переступая босыми ногами, пошла обратно.
И едва перенесла ногу в пролом, Абду-Гаме молча прыгнул к ней.
Коротко крикнула Мириам, но жесткая ладонь зажала ей рот.
— Вот ты какая жена!.. К неверному урусу ходишь, проклятая тварь… Ты изменила слову пророка… Пусть же будет с тобой по закону пророка… Завтра…
Но Мириам с кошачьей упругостью вырвалась из дубовых рук.
В темноте белыми пятнами засверкали обезумелые от злобы глаза.
— Черт!.. Собака!.. Верблюжий ублюдок, чтоб пропало семя твое и детей твоих, чтоб на него мочились свиньи!.. Ненавижу тебя… проклятого, ненавижу!.. Люблю джигита!.. Убей меня — пока я тебя не убила…
Абду-Гаме отшатнулся в ужасе. В первый раз он слыхал такие слова от женщины. Ни он, ни отец его, ни отец отца не слыхали никогда ничего подобного. Земля поплыла под ногами.
Он беспомощно оглянулся и увидел рядом суковатую длинную палку, подпиравшую виноградные лозы. Хрипнув, вырвал ее из земли и с размаху ударил женщину в бок.
Мириам упала, и тогда Абду-Гаме, замычав быком, стал хлестать ее палкой сверху мерными и размашистыми ударами.
Она сначала стонала, потом затихла.
Абду-Гаме бросил палку и нагнулся к неподвижному телу.
— Довольна, собака?
Но жалко свернувшееся тело вдруг выпрямилось, перевернулось, и Абду-Гаме почувствовал режущую нестерпимую боль в сухожилье, над пяткой левой ноги, куда с неистовой силой врезались зубы Мириам.
Тогда он, охнув от боли, вырвал из-за пояса печак и наотмашь ударил Мириам под грудь. Кровь брызнула ему на руку, тело дрогнуло и забило ногами.
Несколько стонов и тишина.
Абду-Гаме вытер печак о полу халата.
— Лежи, падаль!.. Завтра я вытащу тебя в овраг, и пусть тебя пожрут псы, как негодное мясо!..