Вахромеев ему делал угрожающие глаза: убирайся немедленно! Однако Егор и ухом не повел, ловко за спиной отбросил окурок под печку, браво представился:
— Старшина Савушкин, командир второго стрелкового взвода!
— Можете быть свободны, — сухо сказал ему Вахромеев.
— Нет, почему же? — возразил полковник, снимая тесный ватник. — Пусть остается. Тем более что мы с товарищем Савушкиным давно знакомы, Еще с Харькова. Верно, старшина?
— Так точно, товарищ полковник! Было дело! — гаркнул Егорша.
Комдив пригладил волосы, подошел к лежащей на столе трофейной карте, заинтересовался:
— Откуда это?
— Лично доставил, товарищ полковник! — Савушкин горделиво подтянулся.
— Взяли у пленного?
— Не то чтобы так… А в одном предмете обнаружил. Как есть в печке, вот в этой немецкой. Ну а печка, значица, располагалась в хате. Мы народ такой, что интересуемся, где, что и почему лежит. С военной надобностью, значица. Про тактику соображаем, это уж точно.
— Понятно. Хотя и мудрено, — усмехнулся полковник, переглянувшись с Вахромеевым: дескать, нечетко докладывают подчиненные, витиевато. Надо учить. Опершись ладонями о стол, с минуту разглядывал нанесенную на карту обстановку. — Да… Что ни говори, пошла у немцев мода на крепости. Обыкновенному городу ни с того ни с сего присваивают название «крепость». Причем личным приказом Гитлера. Ковель, Броды, Жмеринка, Проскуров — все города-крепости. Тарнополь, как видите, тоже крепость. А ведь нам его предстоит взять на днях. Поняли, братья славяне?
— Да уж поняли, догадались, — хмуро кивнул Вахромеев. — Тарнополь, а дальше Львов. В нашей полосе наступления.
— А еще дальше — Карпаты… — в раздумье продолжил комдив.
— Вот Карпаты — это дело! — шагнул к столу старшина Савушкин. — Я к тому, товарищ полковник, что горы нам как раз сподручнее. Мы ведь с комбатом кержаки-алтайцы, в горах выросли, можно сказать, с пеленок по кручам да скалам ползали. Охотництвом в тайге промышляли. Потому горы нам по душе, уж там мы развернемся по-нашенски. Так что не сомневайтесь, преодолеем эти самые Карпаты!
— Я и не сомневаюсь, — сказал полковник. — Только до Карпат еще надо дойти, а самое главное — дожить. Да и до Тарнополя, хоть он рядом, тоже еще добраться надо. Потом штурмовать. Так что готовь батальон, Вахромеев, пойдешь на острие удара. Первым ворвешься в город. Опыт уличных боев у тебя богатый: Сталинград, Харьков. Выступаете сегодня в полночь, чтобы к утру быть на исходных — рубеж восточная окраина Тарнополя. Задача тебе ясна?
— Ясна…
Аккуратно сложив трофейную карту («Это я у вас забираю»), комдив сунул ее в полевую сумку. Закурил, сказал посмеиваясь:
— Ишь ты, все ему ясно… Уж больно скорый ты, Вахромеев! А от этого опрометчивый. Тебе ясно, а мне не ясно: где твоя артбатарея? Думаешь, поди, пушкари на отдыхе щи хлебают? В овраге они застряли, все шесть пушек увязли намертво — я проезжал, видел издали, А сейчас уже морозец, колеса обледенели — капут, не крутятся. Тут только волоком. Трактор найдешь?
— Где ж его взять?..
— Тогда берите мой второй БТ, сажайте своих хлопцев — и на помощь пушкарям. Это я тебе поручаю, старшина Савушкин. Справишься?
— Какой разговор?! Да я эту батарею «цоб-цобе» за полчаса приволоку, товарищ полковник!
— Ну, не хвались. Даю тебе час, ни минуты больше. Потом мне надо ехать в передовые полки. Действуй.
Савушкин козырнул, бойко кинулся к порогу, но остановился. А когда повернулся, его было не узнать — такую он скорчил жалобную, просительную мину.
— Товарищ полковник… Не за себя прошу, заради солдат, этих разнесчастных пушкарей… Умаялись вдрызг ребята, а уже, глядите, темнеет! Может, и второй бронетранспортер разрешите? Уважьте нас по-солдатски…
Комдив помедлил, покачал головой:
— Ну, кержаки, у вас прямо цыганская хватка!.. — махнул рукой: — Ладно, старшина, бери и второй. Но помни: уложиться точно в срок!
Подошел к окошку, чуть сдвинул занавеску, наблюдая, как мечется по двору Савушкин, машет руками перед водителями бронетранспортеров (даже сумел их от ужина оторвать!).
— Силен мужик!.. Вот на таких и держится наша матушка-пехота, Он у тебя давно взводом командует?
— С августа прошлого года, — ответил Вахромеев.
— Пора бы его и на младшего лейтенанта представить, — сказал комдив. — Я полагаю, пора.
— С грамотой у него неважно, товарищ полковник. Всего шесть классов. А так командир боевой.
— Вот это и есть главное! — сказал комдив. — Солдатскую науку он превзошел, командовать в бою научился. Стало быть, офицерское звание ему положено по праву. После взятия Тарнополя напиши представление на Савушкина.
— Есть!
Вошел ординарец с огромной сковородой жареной картошки, шипящей шкварками. Вахромеев, конечно, заметил, как быстро успел причепуриться Афоня, надел новый поварской передник, а слева на груди на видное место пристроил свою единственную медаль «За отвагу». Ловко поставил сковороду на стол, быстро разложил посуду и тут же вышел, щелкнув каблуками.
— А ты сменил ординарца? Новенький? Помню, был у тебя этакий прыщавый «громовержец» с гусиной шеей. Теперь бычка упитанного подобрал, под официанта работает…
Вахромеев от души расхохотался.
— Это тот же самый, товарищ полковник! Ну «громовержец». Ей-богу, он! А все после той контузии на высоте двести семь под Харьковом. Помните, я вызывал огонь на себя? Так его, Прокопьева, там землей завалило, еле потом откопали. И представляете, будто заново родился парень. Лихим солдатом стал.
— Ну и ну! — удивился комдив. — Психологическая перековка получилась. Бывает.
После чая полковник глянул в окно, поинтересовался: не возвращаются ли бронетранспортеры? Потом хитро подмигнул Вахромееву:
— А я ведь, комбат, приехал настроение тебе поднять перед боем! Да, да, не удивляйся. Был я на днях в прифронтовом госпитале, к хирургу ездил на консультацию. И знаешь, кого там встретил? Ни за что не догадаешься. Твою землячку-летчицу, ту, что под Харьковом приезжала к тебе в гости…
— Ефросинью!.. — охнул Вахромеев.
— Ее самую! Да ты сиди, сиди, не вскакивай! Ничего с ней серьезного не случилось, малость поцарапало осколком ногу — вот как меня, примерно. К тому же она уже готовилась на выписку. Так что привет тебе и поклон.
— Спасибо.
— Ну «спасибо» ты не отделаешься, потому как я еще и письмецо тебе привез. Правда, коротенькое. На дороге это все случилось, я очень спешил. Вот, получай.
Пока Вахромеев торопливо и жадно читал-перечивывал записку, комдив благодушно бурчал что-то себе под нос, прохаживаясь у печки. Потом вернулся к столу и плеснул в кружки оставшийся во фляге «боезапас».
— Завидую я вам… А вообще, черт-те что иногда придумывают люди: любовь на войне! Это надо же! С одной стороны, тут, как говорится, чистый вывертыш. А ежели с другой посмотреть, то все правильно. Давай, комбат, выпьем за твою любовь, за то, что она выжила, выдюжила.
Сначала была радость: военно-врачебная комиссия при выписке из госпиталя признала старшину Просекову «годной к летно-подъемной службе в легкомоторной авиации». Об эхом было записано в медицинской книжке. Однако в записи имелась оговорка, поставленная в скобки: «После использования десятидневного отпуска, необходимого для отдыха и полного излечения». Эта оговорка и портила все дело.
Где его проводить, этот отдых? Не поедет же она в Черемшу или даже в Саратов, в пустующую двухкомнатную квартиру! Хотя бы потому, что по теперешним временам, когда можно рассчитывать только на «пятьсот-веселый», этих дней как раз хватит, чтобы доехать до Саратова и вернуться обратно. Такое путешествие не прельщало…
Правда, главврач говорил про тыловой профилакторий для военных летчиков, расположенный где-то под Киевом. Советовал махнуть туда — это недалеко. Но как ехать без путевки, без направления, наобум, за здорово живешь? А если дадут от ворот поворот? Ведь сейчас всюду забито-переполнено: вокзалы, госпитали, пересылки. Вся Россия поднялась, валом повалила на запад: старая граница уже за спиной, теперь пора и поквитаться с фашистами.
Нет, не время отдыхать да по профилакториям прохлаждаться! Не время! А что делать, куда податься, где искать свою эскадрилью? Надо думать…
Прямо за старой городской площадью, мощенной булыжником, тянулся парк, реденький, искромсанный артобстрелом — городок зимой дважды переходил из рук в руки. Еще в госпитале, с грустью поглядывая в окно, Ефросинья мечтала после выписки непременно пройтись, прогуляться по единственной аллее, уловить запах оттаявших ветвей, притронуться к липким бугоркам зреющих почек (а они уже должны быть: весна…).
Она бросила вещмешок и шинель на скамейку, села, запрокинула голову к солнцу — и поплыл, закачался голубой мир, баюкающий ласковым теплом. Сразу далеко отодвинулось вчерашнее, стало почти полузабытым прошлым: и тревожная тишь ночных госпитальных коридоров, и запахи бинтов, лекарства, д острый блеск хирургических инструментов, и твердые, властные пальцы медсестры, которые, казалось, были налиты постоянной сплошной болью…
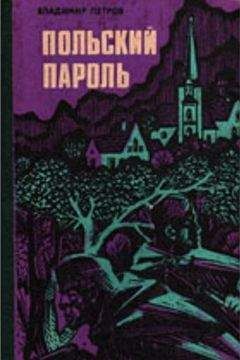



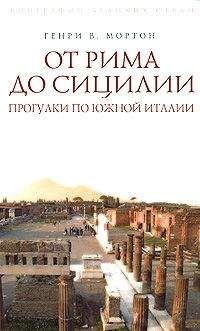
![Филип Фармер - Властелин тигр [= Владыка тигр, Бог-тигр, Властитель тигр, Лорд Тигр]](https://cdn.my-library.info/books/21569/21569.jpg)