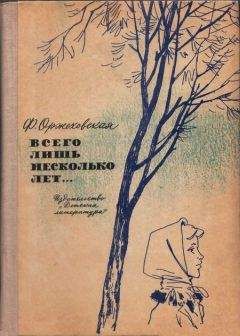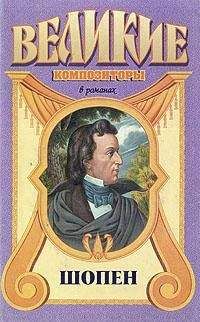Бывали случаи, когда предложения Володи не сразу принимались. Маша была свидетельницей бурного собрания во дворе, когда Игнатов попробовал объявить проверку самодисциплины. А это значило — не драться в течение трех дней! При всем уважении к Володе бригада возмутилась. Три дня — это пустяк, но что за постановка вопроса! Двор гудел. Володя спокойно выжидал, а когда немного утихло, попросил ребят высказаться. Но гудение продолжалось, и только выделялись отдельные голоса:
— Ребята, он сбесился!
— Вот новости!
— Хорош!
— Значит, ты и сам не будешь драться?
— Не буду! — крикнул Володя, воспользовавшись паузой.
— И сдачи не дашь?
— Кому?
— А если кто начнет?
— Вот я и предлагаю, чтобы никто не начинал.
— Насилие над природой! — вскричал Виктор Грушко, и, как всегда, нельзя было понять, серьезно ли он говорит или шутит. — Мы не можем не драться, это и взрослые признают.
— А мы разве не взрослые?
Стало тише. Володя продолжал:
— В самом деле, ребята, пора же доказать, что и мы умеем бороться с пережитками. Это же атавизм, поймите!
— Драка — это физкультура! — выпалил кто-то сбоку.
Володя даже не взглянул в ту сторону.
Гудение стихло, Володя ждал.
— Неужели вы и трех дней не выдержите?
— Лично мне драка всегда была противна, — сказал Коля Вознесенский. — Предложение дельное. Я — за.
И поднял руку.
В конце концов, полусмеясь, полунегодуя, бригада согласилась просто так, для пробы. Но трех дней оказалось слишком много: в конце второго Володя потерпел поражение. Митя Бобриков, ответивший на задирания провокатора и вовлекший в драку других ребят, потом оправдывался:
— Да что я — христосик? Левую щеку подставлять? Или правую я уже забыл. Он меня — хлясь, а я — спасибо?
— Да ты бы его удержал.
— Я и стал, а он…
— В самом деле, Володя, — вмешался Коля Вознесенский, — оборону ты признаешь?
— Оборону признаю.
— Ну вот: один нападает, другой обороняется — вот тебе и драка.
— Начинать не надо, — сказал Володя холодно.
— Да милый ты мой! Всегда один начинает, и всегда так будет — даже в международном масштабе.
— Не будет, — сказал Володя.
— Когда же это не будет?
— Когда люди поймут, в чем главное зло.
— Ах, вот когда!
Володя стоял на своем и вывел зачинщика из бригады на целый месяц. Ребята поддержали Володю. Наказанный через несколько дней пришел во двор (это он утверждал, что драка — физкультура) и молча присутствовал при совещаниях. Но заданий не получал.
Сам Володя был невысокий, плотный, с румянцем во всю щеку, с чистыми, словно омытыми карими глазами. На него было приятно смотреть, хотя, в сущности, ничего особенного: парень как парень. Но с ним было удивительно легко разговаривать, а ведь есть такие, при которых молчишь, боишься за каждое свое слово…
— Отчего только одни мальчишки возле него? — ревниво спрашивала Дуся. — Давай, Машка, и мы присоединимся.
Володя поручил им шефство над племянницей Мити Бобрикова: гулять с ней по очереди в свободное время.
— У них коляски нет, — сказала Дуся, — но ничего: можно и на руках…
Но Володя вовсе не был сторонником жертвенности.
— Коляску достанем, а вот вы… — он запнулся, — поразговаривайте с девочкой, когда она не спит.
Дуся хихикнула:
— Она только ночью не спит — это раз. А о чем с ней разговаривать? О политике?
— Ей и годика нет, — пояснила Маша.
— Я знаю. — Володя нахмурился. — Но я наблюдал, как бабушки или няни разговаривают с грудными. А те слушают.
— На ус, стало быть, мотают, — сказала Дуся.
В глазах у нее были насмешка и любование.
— Ну вот, значит, пока до ясель вы и будете воспитательницы, — заключил Володя.
Он знал, как повернуть разговор.
Глава седьмая
НЕУДАЧНЫЙ ВЕЧЕР
Во время школьного праздника, шестого ноября, Маша должна была играть в четыре руки с семиклассницей Лорой Тавриной вальс из «Фауста». От этого выступления многое зависело. Но, получив ноты, Таврина вдруг обиделась, что ей досталась вторая партия, одно лишь подыгрывание. Насилу удалось доказать ей, что трудность партии не зависит от того, на каком месте сидеть. И действительно, партия Лоры оказалась даже труднее.
Пришлось поволноваться, но когда после торжественной части они начали играть, воодушевление Маши передалось ее партнерше, и вальс прозвучал хорошо.
Да, а настроение было испорчено: тот, для кого играла Маша, пришел слишком поздно, когда концерт уже кончился.
На вечере была и мать Маши. После концерта, гордая и счастливая, она удалилась, чтобы не мешать дочери: пусть себе веселится.
Но веселья не было.
Маша переходила из зала в коридор, заходила в классы. Все возбужденно переговаривались, держались группами. Дуся сидела на подоконнике с другими девочками и только окликнула Машу издали:
— Чего ты там бродишь? Иди сюда.
Кажется, могла бы побеспокоиться, отчего лучшая подруга ходит одна, и сообразить, что посторонние девочки ни при чем. Но Дуся продолжала сидеть, с места не двинулась.
«Хорошо же», — думала Маша, постепенно мрачнея.
Родители, приглашенные на вечер, задавали вопросы, нельзя сказать, чтобы тактичные. Митю, например, спросили, как он учится. А он оброс двойками. Маша избегала этих гостей. Но одна родительница все-таки поймала ее, похвалила за игру и спросила, чем занимается мама. Работает или так — домашняя хозяйка?
— Моя мать портниха, — сухо ответила Маша и зачем-то прибавила: — Швея…
— Что ж, это хорошая профессия, — сказала родительница, как будто утешая. — Ну, а папа?
— Не знаю, никогда не интересовалась.
Гостья постояла немного и отошла.
А в углу зала отец Андрея Ольшанского, Павел Андреевич, завел с ребятами разговор о выборе профессии. Андрей занимался лепкой. Коля Вознесенский писал стихи. Остальные представляли себе будущее довольно смутно, но были уверены, что в наше время техника решает все.
— Хорошо, если есть талант, — сказал Володя Игнатов, — тогда и выбрать легко.
— Достаточно, если есть склонность к чему-нибудь, — возразил отец Андрея, — это уже половина таланта.
— А если и склонности нет?
Это неожиданно для всех сказал Митя Бобриков. Все обернулись к нему.
— Это как же?
— А так. Все безразлично.
— Этого не может быть, — сказал Ольшанский. — Это значит напустить на себя.
Володя понимал, что в присутствии целой толпы Митя будет держать себя вызывающе; он и сам не рад тому, что у него вырвалось. Володя сказал:
— Это бывает. Вдруг временно охватит равнодушие. А потом все решительно начинает нравиться. Вот у меня сейчас так.
— Если все нравится, то это прекрасно, — ответил Павел Андреевич. — Только на чем-нибудь надо остановиться.
— Одно время я хотел быть педагогом. Но только таким, как Макаренко.
— Ну и что же?
— Если бы существовала такая специальность, — продолжал Володя, сильно краснея, — насаждение справедливости, — я не стал бы колебаться.
— Это не должно быть специальностью, — сказал отец Ольшанского, — это должна быть обязанностью всех, независимо от их занятий.
— Нет. — Володя пуще прежнего покраснел. — Я думаю, этим должны заниматься отдельные талантливые люди. Может быть, это целая наука…
— Лучше всего изобрести машину, — вмешался Виктор Грушко, — которая сама вершила бы суд над сомнительными явлениями.
Он явно важничал и ждал поощрения от инженера-специалиста: «Что там ваши гуманитарные терзания. Надо говорить о деле».
Но инженер покачал головой.
— Никакая машина не рассудит так, как человеческое сердце, хотя, конечно, и сердце иногда ошибается…
Разговор был интересный для Маши и мог стать еще интереснее, если бы в нем участвовал тот, кого здесь не было.
«И что со мной такое?..» — думала она, проходя через зал.
Она в равной степени была готова и к радости, и к горю. Мог зажечься ослепительный свет. Могло стать темно, как в яме. И вдруг она увидела Андрея Ольшанского и рядом с ним Нину Реброву. Рыженькая девочка, теперешняя соседка Нины по парте, подбежала к ней и стала что-то горячо доказывать. Нина покачала головой.
— Ты ее не знаешь, — донеслось до Маши, — у нее чертовское самолюбие.
— Ну, я тебя прошу.
— Нет, я не стану. Скажи сама.
Рыженькая обернулась и, увидев Машу, сразу пошла на нее:
— Снежкова, милая, дорогая, только ты можешь, выручи!
— В чем дело?
— Понимаешь, пианистка подвела нас, не пришла. Это ужасно. Все хотят танцевать. Сыграй вальс, пожалуйста, умоляю.