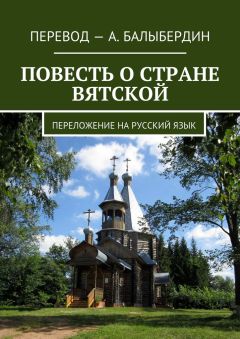Оживают перед читателем давние годы, вятская земля времен детства писателя, село Дубки, лежащее на «Сибирке», — дороге, по которой гнали в Сибирь каторжан, по которой устремлялся в дальние сибирские края поток переселенцев:
«— Ох и наказание же — эта дорога! Дня не проходит без беды. Угораздило же вас, тятенька, выбрать местечко. Хуже, беспокойнее, пожалуй, на всей земле нету», — ругает свекра сноха Варвара. Он отвечает: «А ты много видала ее, земли-то? Не я выбирал, нужда выбрала, — беззубо шамкает Евдоким. — Нужда нашей жизнью правит. С нее спрашивай».
Один частный, казалось бы, штрих, а он сразу характеризует судьбы сотен тысяч сел и деревень царской России, судьбу крестьянства, всего трудового люда Российской империи. Емкими изобразительными средствами Кожевникову удается проникнуть в самую суть явлений.
Наглядно раскрывает автор смысл царского манифеста о «воле» крепостного крестьянства:
«Вот как ослобонили. Если бы только от барина, а тут и от земли, и от сохи, и от воды, и от родного крова, и отеческих могил. Наградили большой дорогой да ветром…»
Сломалась у горемыки-поселенца, тянущегося в Сибирь, тележная ось — и возникает картина народного бедствия, с цепкой, истинно художнической деталью. Ось починили — «и старая, пепельно-темная, пропыленная телега влилась в поток таких же чумазых дорожных тружениц. Весь тележный поток выглядел как мутная вешняя река, по которой плывет единственная белоснежная льдина — березовая ось, сделанная Герасимом».
Вот из таких точных деталей складывается полотно, изображающее людское половодье, понесшее множество переселенцев в далекую, манившую миражами воли и удачи Сибирь. О путях и горьких человеческих судьбах и рассказывает эта книга.
Особое внимание привлекает образ Миши, младшего из обширной семьи Барановых, в нем мы узнаем юношу Алешу Кожевникова. Интересны Мишины друзья-сверстники, «хозяин улицы» Васильваныч и Сашка Летягин.
История семьи Летягиных включает в себя отлично написанную сцену проводов крестьянина на непонятную, чуждую ему японскую войну:
«— Ш-ш… не надо. — Отец посадил парня рядом с собой, на лавку, где уже сидела мать с дочурками, прижал его головенку к своей груди. — Не надо плакать. Ты ведь большой…
В улице снова крикнули:
— Эй, Летяга!
Кузнец обнял жену и ребятишек, сразу всех одной охапкой, перецеловал и сказал:
— Прощайте! Простите меня, что оставляю нищими!»
В главе с выразительным названием «Вся Русь в недуге» появляется книгоноша Афоня, который начинает со «смутительных речей» (не бегать, мол, в Сибирь надо, а — гнать царя и подцарков!..), а потом, видно, помогает побегу «политических» — каторжан.
Очень многое в романах «Иван — Пройди свет» и «Ветер жизни» навеяно впечатлениями детства и юности автора. «Ветер жизни», — пишет он, — можно назвать «путешествием в прошлое, в молодость моего поколения, путешествием с дорогими друзьями и спутниками моей жизни по дорогим местам…»
В сочинениях Алексея Кожевникова читатель всегда найдет добрые черты облика самого писателя: любовную заинтересованность в изображаемой действительности, чистоту взгляда на людей и на их взаимоотношения друг с другом, с природой, с обществом и еще одно — восхищение художника богатством, красотою и мудростью родного языка, народной речи.
Хочу в заключение привести прекрасные слова Алексея Венедиктовича Кожевникова:
«…Если от моих книг кому-то станет чуть-чуть теплей, светлей, радостней, легче, — я буду счастлив. Я сделал свое жизненное дело».
Ю. Лукин
Тансык, младший сын степного скотовода-кочевника Мухтара, ездить верхом начал с первых дней своей жизни, совсем маленького во время перекочевок мать возила его на руках или в корзинке, прикрученной к седлу. Потом, встав на свои ноги, он ради забавы катался верхом на козлах и баранах, с пяти лет ему разрешили самостоятельно ездить на коне, а восьми он получил коня в свое полное распоряжение.
Этот день стал для Тансыка самым счастливым в его детстве. Перед тем долго-долго тянулась зима. Старшие не запрещали Тансыку играть на воле, но там либо кусались нестерпимо больно злые морозы, либо дули непроглядные снежные бураны, и парнишка почти все время безвылазно проводил в полутемной избенке-мазанке с одним маленьким окном, перетаскивая из угла в угол обломки саксаула и воображая в утешение себе, что перегоняет неисчислимый скот. За зиму он измучил всех старших постоянными спросами и хныканьем: «Когда же мы начнем кочева-ать?!»
Наконец морозы отстояли свое время, их сменило тепло, снег сошел, степь на припеках зазеленела молодой травой и Мухтар сказал старшему сыну, двадцатилетнему Утурбаю:
— Пойди собери стада! Будем кочевать. — Потом кивнул Тансыку: — А ты беги помогать брату!
В молодости Мухтар получил от отца большое хозяйство, но всю жизнь беднел, и к шестидесяти годам у него осталось только пять взрослых лошадей, два жеребенка, три верблюда, четыре коровы с телятами, один бык, полсотни овец и еще меньше коз. При кочевой жизни, когда нет ни поля, ни огорода, ни сада, это не богатство, а настоящая бедность.
Но Мухтар продолжал держаться богачом — никогда не помогал семье в работе, только доглядывал за всеми и сердито покрикивал, вместо «мой табун, мое стадо» говорил «мои табуны, мои стада». И в этот раз он важно похаживал туда-сюда около мазанки, перебирая руками свою реденькую узенькую бороденку, похожую на волосяную, обмызганную метелку коровьего хвоста, и придирчиво зыркая глазами.
Утурбай и Тансык, оба верхом на конях, шумно, криками и щелканьем кнутов, сгоняли разбредшийся скот к дому.
Мать собирала котлы, ведра, вкладывала одну в другую пестрые пиалы, свертывала трубками кошмы и шептала слова, которые по старым поверьям приносили удачу во всяком деле. Лицо ее, будто вылепленное из темно-серой глины, слегка подрагивало улыбкой бедного человека, боявшегося радоваться открыто, смело.
Пятнадцатилетняя золотистоликая сестренка Тансыка с красивым именем Шолпан — утренняя звезда, — еще не научившаяся держать себя молчаливо, строго, выносила с песнями и шутками скарб из мазанки. Тоненькая, хилая с виду, она была достаточно сильна, чтобы тащить зараз по две тяжелые кошмы.
Первыми резво подбежали к Мухтару пасшиеся кони. Он ласково похлопал их, кого по спине, кого по шее. Затем подошли гордые верблюды, ленивые коровы, своенравные, не любившие подчиняться кому-либо козы и последними бестолковые овцы. У этих была повадка пастись всегда позади коз, сами они не умели находить пастбища, сбивались в кучу, топтались на одном месте и без вожаков-козлов, верно, погибли бы от голода.
Когда подъехали сыновья, Мухтар спросил строго:
— Всех собрали? Хорошо осмотрели лощинки, камни?
— Все ладно, — ответил Утурбай.
— Пересчитай еще раз! — приказал отец. — Козлята могли отбиться.
Утурбай пересчитал скот, но Мухтар не успокоился и послал его посмотреть окрест. Сын ехал, не глядя на степь, и сердито думал об отце: упрямый козел. Сколь ни считай свою бедность, от этого она не станет богатством, надо, как русские, заводить соху и пахать землю. Там, где растет трава, будет расти и пшеница.
Добро, необходимое для кочевой жизни, связали в аккуратные тюки, затем прикрутили к спинам верблюдов. На него, меж верблюжьих горбов, взгромоздились мать и сестренка.
— Прощай! — Шолпан помахала Тансыку быстрой, тонкой рукой. — Ты останешься в доме. Тебя съедят крысы.
Но Тансык придумал выход:
— Я поеду на баране.
— Тогда волки съедят тебя вместе с бараном, — продолжала пугать сестра.
«Верно, могут съесть», — струсил Тансык и обиженно надулся.
Отец ткнул пальцем в его надутую щеку и сказал:
— Ты поедешь на коне. У тебя будет свой конь и свое седло. — Тут же заседлал старого, но еще крепкого мерина рыжей масти с проседью. — Вот… Береги, ухаживай!
Гибкий и юркий, как ящерица, Тансык мигом взобрался на коня.
— Твой конь не дотянет и до ночевки, — не унималась развеселившаяся сестра. — Дальше поедешь на палке.
Но Тансык стал неуязвимо счастлив, больше не завидовал ни отцу, ни брату, ни даже тем славным наездникам, которых воспевали акыны. Теперь-то он сам изъездит вдоль и поперек всю Казахскую землю: и травянистые степи, и голые пески, и лесистые и снеговые горы.
Мазанку оставили открытой — пусть заходит всяк, кому нужен приют, — и двинулись к горам, которые виднелись далеко впереди наподобие громадной конской челюсти с гнилыми щербатыми зубами, то снежно-белыми, то землисто-темными. Там, в долинах среди этих горных зубов, были сочные пастбища и зеркально чистые водопои.