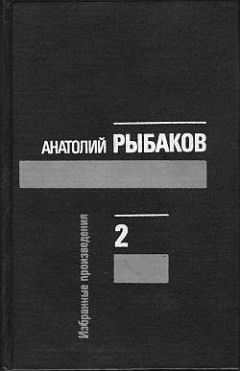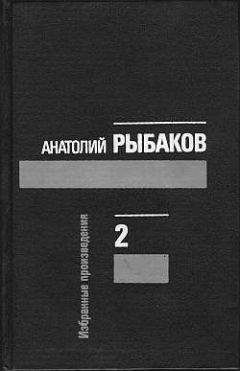Лапин нахмурился: этого обстоятельства он не знал. Неожиданное обстоятельство. И по-видимому, не только для него, вон даже Аврорин с Черноконем переглянулись, невозмутимый Ангелюк и тот заерзал на стуле. Дело серьезнее, чем он думал! И зачем Миронов вспомнил про этот перевод, кто его тянул за язык? Лезет на рожон!
— Когда это было?
— Месяца два назад, точно не помню. Ангелюк, наверное, лучше помнит.
— А я здесь при чем? — спросил Ангелюк.
— Ты же мне предложил эту перестановку.
— Не помню.
Миронов насмешливо кивнул в сторону Ангелюка:
— Память ему вдруг отшибло.
— Заявляю ответственно, — объявил Ангелюк, — ни про какой перевод Колчина я не знаю. Первый раз слышу. И теперь все ясно.
— Что тебе ясно? — спросил Миронов.
— Человек тридцать лет проработал в цехе, а ты его хотел выгнать. Хорошо хоть, честно признался.
«Попался Миронов, — подумал Лапин, — теперь они на этом попляшут. Да, дело серьезнее и кляузнее, чем он думал. И могут всплыть новые обстоятельства — Коршунов довольно прозрачно намекал на это. Нет, такого дела он на себя не возьмет — спасибо. Миронов плохой союзник, не понимает или не хочет понимать, с кем имеет дело. Нет, пусть комиссия разбирается. Конечно, ничего Миронову не будет, только прозевал директорство, сам виноват».
— Владимир Иванович, дорогой, — опять зашепелявил Аврорин, — ваши опыты, хотя и очень интересные, не должны все же вытеснять людей с производства. Как вы думаете, дорогой? Колчин после тридцати лет работы в цехе вдруг оказался негоден — как же так? Этак завтра каждого из нас могут попросить выйти вон! Все же у нас не люди для опытов, а опыты для людей.
— Повторяю, — сказал Миронов, — перевод в архив не мог сыграть никакой роли. К тому же этот перевод не состоялся.
— Наш разговор носит предварительный характер, — сказал Лапин, — возможно, будет создана более широкая и компетентная комиссия.
— Очередная проверочка, — засмеялся Миронов.
4
Когда Лиля привела Сонечку из детсада, накормила и уложила спать, было уже девять — ночь для человека, которому вставать в шесть часов утра.
Но Лиля не хотела спать. Она погасила свет и прошла к Фаине, оставив двери полуоткрытыми, — Фаина жила на той же площадке. Они вместе работали на стройке и квартиры попросили рядом. В завкоме поморщились, но квартиры дали. Только предупредили, чтобы жили тихо.
Фаина чистила селедку-черноспинку, большую, жирную, копченую.
— Так селедочки захотелось, так захотелось, — Фаина жмурила толстое, обветренное, но все еще красивое лицо с узкими и горячими глазами, — я как этот залом увидала — задрожала вся, ей-богу! То одну возьму, то другую. Мне уж продавец говорит: «Ты что, тетка, корову выбираешь?»
Они начали готовить селедку с неторопливым энтузиазмом одиноких женщин, не привыкших тратить на еду ни времени, ни денег — получали на заводе бесплатное питание, — и теперь наслаждались хлопотами, которые придавали домашность их холостому жилью, коротали вечера одни, без мужчин, без шума и галдежа.
— Первая рыба — селедка, — Фаина крошила лук, морщилась и отворачивала голову, — и самая дешевая. Балыки, осетрины ни в какое сравнение.
Они перешли из кухни в комнату, накрыли стол.
— Сообразим, что ли? — Фаина покосилась на Лилю. — Закуска пропадает. — И крикнула вдогонку: — Лизавета! Много не неси, так только, для аппетиту.
Пила она маленькими глотками, держала рюмку двумя пальцами, брезгливо, точно это насекомое, которое надо стряхнуть с руки. Зато с аппетитом ела селедку, обсасывала жирную шкурку.
— Надоели в столовой белки эти да калории, душа не принимает. А селедка — лучше нет закуски. И отец твой любил.
— Папа пил?
— Не скажу, чтобы пил, но выпивал. И поругает человека, и выпьет с ним, когда надо. Все поставит по-своему, а человека ни вот на столечко не обидит. — Фаина показала кончик широкого ногтя. — Каленый был мужик. Механизация — лопата, транспорт — тачка. А ты давай: начальник строительства! Начнут, бывало, полоскать и на собрании, и на бюро, и в горкоме. А он ничего, будто так и надо. Не боялись тогда критики. А взять того же Коршунова, приедет в цех, с людьми не разговаривает, презирает. Обидно ему, конечно, из Москвы сюда запятили. А почему? Дела не делал и здесь дела не делает. А твой отец и делал и спрашивал крепко, а любили его.
— И убили.
Фаина пожала плечом:
— Такая веялка! Брали самых, можно сказать, кто дело начинал. Такого страху напустили. Ангелюк, паразит, Соловками меня пугал, в Соловки, говорит, поедешь. Как же! Воспитываю дочь врагов народа. А я ему: «Все равно, говорю, где землю копать, хоть здесь, хоть на Соловках». Я тогда на котловане землекопом работала.
Фаина раскраснелась, глазки ее весело блестели, стали совсем узенькими и добрыми. Лиля, наоборот, хмурилась. Вино веселило ее только в шумной компании.
Она вспомнила, как пришла первый раз в отдел кадров… Ангелюк стоял, упираясь коленом в стул, читал ее анкету, которую знал, наверно, наизусть.
— За что арестован ваш отец?
— Не знаю.
— На сколько осужден?
— Не знаю.
— Мать?
— На десять лет.
— Кончила срок… Где она?
— В Александрове.
— Имеет минус?
— Да.
Девицы, сотрудницы отдела кадров, пригнулись к столам, затаили дыхание — бывали с Лилей в клубе, на танцах, и не знали, что она такая.
— Ах, ваша фамилия Кузнецова, — как бы начиная о чем-то догадываться, сказал Ангелюк.
Не следовало говорить ему, где живет мама. Он может написать туда, снова начнутся мамины мучения. Зачем она сказала? Ведь могла ответить, что не знает.
— Кузнецов, — Ангелюк сделал вид, будто догадался наконец, в чем дело, — тот самый Кузнецов, который был здесь когда-то начальником строительства?
— Да, был.
— Как же вы не знаете, за что арестован Кузнецов? Он арестован как враг народа. Как враг народа, — повторил Ангелюк, — а вы умолчали, скрыли.
— Я написала: родители арестованы в тридцать седьмом году.
— Арестованы, — подхватил Ангелюк, — а за что? Скрыли! Все знают, а вы не знаете? Родная дочь! Скрыли! Нехорошо! Неискренне!
Так стыдил он Лилю. Да и что от такой ожидать? Озлоблена. И всегда будет озлоблена.
— Вы понимаете, на какой завод хотите поступить?
Лиля молчала.
— Здесь работают только проверенные люди. А вы скрыли. Плохо! — Ангелюк закрыл папку. — Придете завтра за документами…
Фаина убирала со стола. Сколько бы ни выпила, никогда не оставляла стол неубранным.
Лиля сидела, подперев щеки кулаками. Она отчетливо помнила: Колчин приходил к ним в барак, смотрел на нее, на маленькую. В войну приносил продукты. После войны пытался устроить ее на завод. И все же всегда был непонятен ей и неудобен. И говорить о нем не хотелось. И Фаина о нем не говорила. А если и говорила, то нехотя — не говорила, отговаривалась: мало ли людей помирают, все помирают, царствие им небесное, на всех ни слез, ни горя не хватит.
Но Лиля видела: что-то сильно задело Фаину в этой смерти, и раз уж зашла об этом речь, Лиля не даст ей отговориться.
— Почему Колчин отравился?
Фаина разбирала постель. Лиля видела ее толстую, широкую, непробиваемую спину.
— А кто его знает, всегда был чокнутый.
— Почему он у меня взял пробирку, потом в больницу вызывал?
— Мог и у другого взять, мог и другого вызвать.
— Ведь он бывал у нас.
— Когда это?
— Когда в бараке жили.
— В ба-ра-ке. Бывал. Мало кто бывал. Все старые работники бывали. Сколько нас осталось, старых работников?
— Ведь это серьезно. Разве ты не понимаешь?
— Все понимаю, — насмешливо протянула Фаина, — только о чем говорить? Помер — о чем говорить-то? Как дознаешься? Человек родится — кричит, помирает — молчит. Отчего да почему. Взял да и помер. Лег, вздохнул, да и ножки протянул.
— А зачем меня к нему посылала на завод устраиваться?
Толстое лицо Фаины изобразило искреннее удивление.
— Забыла, в какое время жили? Тут к кому хочешь пошлешь. Я тебя и так и этак. Спасибо, Миронов Володя помог.
— Думаешь, я ничего не помню? Все помню. И как приходил, и как талоны тебе давал. Что-то за этим есть? Знаешь, только говорить не хочешь.
— Никто ничего не знает, — вздохнула Фаина, — без вас судили. И никакие бы свидетели не помогли, ни за, ни против. Думаешь, одну тебя гоняли? Этого Колчина трепали еще почище тебя.
— Как ты его защищаешь! Из-за него теперь Володю мучают. Что ему Володя плохого сделал? Володя всю свою жизнь отдал заводу.
— Ты откуда знаешь?
— Знаю. Своими глазами материал видела.
С подушкой в руках Фаина обернулась к ней:
— Где?
— Видела.
— Во сне ты видела, — пробормотала Фаина, отворачиваясь.