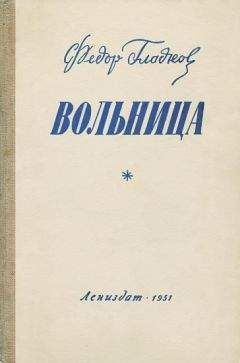— Сейчас к пристани подходим, Настёнка. Пойдём, арбузик и дыньку купим, колбаски. А Федянька посидит здесь, покараулит. С места не сходи, сынок, да поглядывай, как бы не подошёл галах.
А когда они возвращались с покупками — с арбузом, с колбасой, с белым калачом, пахучим и ноздристо-пухлым, — он первый кусок хлеба и колбасы протягивал матери.
— Держи, Настёнка!..
Ночью я сквозь сон видел, как он заботливо поправлял на ней одеялку и, поднимаясь на локте, осматривался, всё ли в порядке.
Это было так ново и неожиданно для меня, что я сначала опешил и с боязливой недоверчивостью глазел на него, как на чужого. Он заметил моё изумление и смущённо засмеялся:
— Ты чего, сынок, уставился, как сыч? Чай, мы не дома: мы сейчас сами по себе, сами для себя.
А лицо матери совсем стало девичьим, и в глазах долго не угасала радостная растерянность. Страх перед отцом сохранился во мне, как инстинкт, и я никогда уже не мог его вытравить до конца. Попрежнему я боязливо молчал и ждал окрика или обычного щипка за волосы. Про себя я объяснял эту странную перемену в отце тем, что мы — среди чужих людей и отец, как самолюбивый человек, хочет показать себя с лучшей стороны. Он, мол, не бирюк, а человек «урядистый».
Лицо матери зарумянилось, посвежело, глаза горячо заблестели, и в них засветилась своя, задорная мысль.
Вероятно, душа её всегда пела, но песню давно придушили дедушка и отец, и она затаилась глубоко внутри. А сейчас на пароходе, от нечего делать вышивая по канве, мать пела вполголоса хорошие, задушевные песни. Характер у ней был лёгкий, общительный, и с первого же дня к ней прилепилась Ульяна. Угрюмое её лицо прояснилось и подобрело. Всё время они шушукались или болтали вполголоса о своих бабьих горестях. А Варварушка больше молчала, читала свою толстую книгу и что-то писала карандашом в тетради. Но вдруг захлопывала книгу и говорила с матерью и Ульяной тоже вполголоса, слушала их с задумчиво-строгим лицом.
Старичок где-то пропадал, а возвращался весело взволнованный, улыбающийся, ахал, удивлённо качал головой и садился на пол, чтобы только успокоиться. Но долго сидеть или лежать не мог; он прислушивался к гулу, к суматохе, к многолюдному говору и крикам, к потрясающей работе машин и, обеспокоенный, быстро вскакивал и семенил куда-то спорыми, прыткими шажками. Когда мы с отцом проходили по пароходу, я видел Онисима то на корме, то на носу, то на нарах третьего класса. Среди мужиков или мастеровых он разговаривал, посмеиваясь и покачивая головой. Должно быть, он успел уже ко всем присмотреться, ко всем подойти и узнать, кто куда едет, что оставил позади и чем озабочен.
Однажды бородатый матрос с дерзкими глазами схватил его мимоходом за плечо и крикнул:
— Опять ты, Онисим, калика перехожая, сума перемётная, побрёл вниз по матушке по Волге? Грач ты перелётный. Сколь годов я уже плаваю с тобой?
Онисим засмеялся и открикнулся по-свойски:
— А ты, Кирюша, годы не считай, а радуйся, что мы с тобой в добром здоровье и благополучии. Течёт Волга неистощимо, как жизнь человеческая, и мы с тобой, Кирюша, — её дети родные. Таких, как мы с тобой, неунывных, она любит.
Матрос раскатисто хохотал.
— Когда ты, Онисим, угомонишься? В грехах покаешься?
— Человека угомон не берёт, Кирюша. Мне каяться не в чем: на мне нет грехов. Грехи, Кирюша, в духоте да сырости живут, как плесень, а плесень-то покрывает один гнилушки.
— Люблю тебя, Онисим; от тебя и старость бежит, как от смутьяна.
— Живая-то душа не стареет, Кирюша.
Часто уходила с ним учительница и долго не возвращалась. Муж Ульяны — Маркел — кивал на них лохматой головой и усмехался.
— Старичок-то всем кум и сват. А с учительницей они, не иначе, фальшивые деньги делают.
Но мать следила за Онисимом с пристальным любопытством, и по глазам её я видел, что он ей нравится. А Онисим с ласковой улыбочкой чаще говорил с ней, чем с мужиками.
— Приедешь в Астрахань, Настя, сейчас же на ватагу нанимайся. Город Астрахань — грязный, неуютный, и деревенскому человеку там жить обидно: народ там колобродный, аховый, базарный, отчаянный. Ты с мужем-то на Каспий поезжай — к Гурьеву, к Эмбе, на промысла. Огро-омадные там ватаги. Трудно там, работка тяжкая, зато — в артели: есть с кем и поплакать и поплясать. А на миру и горе в полагоря, и сердце с сердцем скипается. Труд-то ведь, Настя, везде для рабочего человека — не праздник: труд-то везде нам в убыток. Не на себя трудишься, а в чужую мошну слёзы льются.
Он вдруг постукал пальцем по книжке, которая лежала у меня на коленях, и с колючей насмешкой в прозрачных глазах неодобрительно проворчал:
— А ты всё читаешь да читаешь, малец? Х-м, млад годочками, а читает! Только ведь больше человечьей мудрости не вычитаешь. Читать-то читай, да не зачитывайся, а то забудешь о людях, оторвёшься, как телёнок от стада, и заплутаешься. Заплутаешься — и волки съедят. Походил бы по пароходу, послушал бы разных людей да Волгой полюбовался…
— Меня одного ходить не пускают, — с обидой пожаловался я ему. — А я уж не маленький — всё вижу и понимаю.
Мать встревожилась и ревниво обхватила меня рукой.
— Разве можно одному-то? Гляди-ка, что везде девается? Затопчут, в воду столкнут, а то тюками раздавят.
Варвара Петровна встала, взяла меня за руку и подняла с насиженного места.
— Мы пойдём с ним наверх, а здесь одурь берёт и машины грохочут, и пар шипит, и духота.
Книжку я бережно положил матери на колени и, потрясённый неожиданной радостью от того, что сейчас смогу подняться наверх, где гуляют господа, вскочил, задыхаясь от сердцебиения. Мать проводила меня с ласковой завистью в глазах: ей тоже хотелось пойти с нами наверх. Когда я встречал её взгляд — беспокойный, спрашивающий и покорный, — я всегда чувствовал жалость к ней: почему в глазах её, широко открытых, ожидающих, не угасает грусть? Они грустны даже тогда, когда она смеётся.
Варвара Петровна уверенно открыла дверь и толкнула меня вперёд. Я в страхе прижался к стенке, словно передо мной оказалась пропасть. Блестящие латунные перильца и молчаливая пустота наверху словно отшвырнули меня назад.
Мы поднялись наверх и очутились в ослепительно чистом коридоре с ковровыми дорожками, с блестящими стенками и дверями. Воздух здесь был лёгкий, ароматный, странно пустой. Эта пустая тишина и невиданная чистота и блеск как будто встретили меня с барским удивлением и насторожённостью. Впереди, на носу, в открытую дверь виден был длинный стол под белоснежною скатертью, а на нём играли лучистыми переливами сказочно богатые, хрустальные кувшины, блюда, бокалы, и растения раскидывали в стороны огромные листья. Оттуда вышла женщина в белом фартуке и белой кружевной наколке. Она строго посмотрела на нас и лёгкой походкой пробежала мимо.
И вдруг я ощутил свои босые, грязные ноги, пропитанную потом пунцовую рубашку и бумазейные портчишки. Мне стало страшно: вот выйдет какая-нибудь барыня с турнюром и крикнет брезгливо: «Ты зачем сюда пришёл? Долой отсюда, вниз, к своим галахам!..»
— Отчего ты застыл, Федя? — улыбаясь, позвала меня Варвара Петровна. — Привыкай. Тебя никто не тронет. Выйдем сейчас на воздух и обойдём вокруг парохода. Вся Волга перед тобой откроется.
Я едва отодрал ноги от скользкого пола и пошёл рядом с Варварой Петровной, пришибленный и растерянный. Как-то вышло само собой: я вцепился в её пальцы и долго не выпускал их. А она, тощенькая, в поношенном городском платье, гладко причёсанная, с бледным лицом, с небоязливыми, задумчивыми глазами, шла смело, твёрдо, немного сутулясь.
— Какой ты дичок, Федя! Деревня твоя — далеко позади. Теперь у тебя новая жизнь. Надо её брать с бою, а не подставлять ей спину. Ты ведь не трусишка, вижу. А здесь некого бояться: тебя никто и не заметит. Внизу-то опаснее: там разный народ, и пьяные, и озорники.
Словно на крыльях взлетел я в воздушное царство. Меня ослепил свежий блеск парохода: стены, пол, сетчатый парапет сверкали на солнце зеркальными отблесками, а небесная гладь реки бежала очень далеко, к высоким красным обрывам и бархатно-зелёным ущельям, оползням и долинам, где ютились избушки с тесовыми крышами — маленькие, кукольные, точно сделанные из щепочек. На песчаной полоске прыгали крошечные ребятишки. Лошадка, похожая на жука, тянула по дороге тележку с бочкой, а мужик, меньше меня ростом, шёл рядом с вожжами в руках. От берега плыла лодка, и вёсла взмахивали, как ножки водолюба. И горы, и обрывы, и деревенька, и лодка медленно уплывали назад. Белые чайки вихрями носились над рекой и над нами, повизгивали надрывно, и я улавливал только трепет их крыльев. Гряда зыбких волн катилась к берегу, и далеко позади вскипала пенистыми гребнями. Лодка взлетала носом вверх, проваливалась, опять прыгала вверх, как цевка. Внизу под моими ногами глухо шлёпали колёса. Пароход был живой, горячий: он дышал и плыл по широкому разливу реки, как огромная белая птица. Впереди река безбрежно блестела вплоть до края неба, и там тоже дымили пароходы и чернели баржи, как пловучие хутора, а навстречу, разрезая воду и отбрасывая её в стороны пенистыми волнами, крылатый, играя колёсами, в каскадах брызг, нёсся навстречу такой же белый пароход. Он приветствовал нас весёлым криком «э-эй», и белый человек вышел на бортовый мостик и помахал флажком. Таким же раскатистым криком ответил ему и наш пароход.