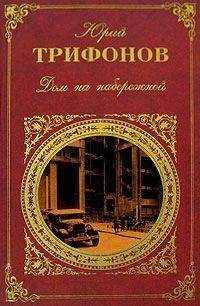Руслан с трудом поднимает голову, оборачивается… Что такое? Где же она? Она только что лежала здесь… Платье валяется на спинке стула… Где же она сама?.. Убежала?.. Воспользовалась его замешательством, прыгнула в окно?!
Плечи Руслана содрогнулись… Он знал, что, нажми он вовремя на курок, уничтожь ее, он не получил бы облегчения. А может быть, добавились бы еще новые муки совести при мысли, что он убил ту, что дарила ему ласку… Но почему же и теперь, когда этого не случилось, нет облегчения?! Почему?!
…Дверь без стука отворилась. На пороге стоял и пронзительно смотрел на Руслана и Майрама возбужденный Тотырбек. Они поспешно, как и положено при появлении старшего, поднялись. Тотырбек прошел к столу, устало опустился на стул и, вытащив клетчатый носовой платок, старательно вытирал им шею, лоб и виски; при этом он внимательно следил за их лицами, вытянувшимися в изумлении от неожиданного появления старца. Тотырбек уже много лет не покидал Ногунала. И вдруг прибыл в Орджоникидзе! Без сопровождающего?!
— Что-нибудь случилось? — осторожно, чтоб не обидеть его, спросил Руслан.
— Захотел тебя увидеть, — усмехнулся Тотырбек и серьезно добавил: — Поговорить с тобой хочу…
Он не стал говорить о том, что после посещения пшеничного поля, а затем и кладбища четыре дня сиднем сидел в хадзаре. Домочадцам он говорил, что у него недомогание. На самом деле ему не хотелось показываться на люди. Особенно он остерегался встречи с Казбеком Дрисовичем Рубиевым — и не потому, что боялся его, — знал, что выскажет ему много суровых и горьких слов о царящей в колхозе бесхозяйственности. Уйдя на пенсию, Тотырбек внутренне поклялся, что никогда не станет вмешиваться в дела председателя колхоза, ибо хорошо знал, как больно ранят нового руководителя замечания прежнего. Но проклятая история с помидорами никак не шла из памяти. Не мог Тотырбек забыть оскорбительных слов, что до сих пор звучали в его ушах. Нет, лучше отсиживаться дома; не лезть на рожон, он свое в жизни сделал, дни, месяцы, годы один за другим прошли в вечных хлопотах и заботах.
Тотырбек целыми днями обдумывал услышанное, вспоминал, какими были его товарищи, друзья, односельчане в те времена. Тотырбеку казалось, что сама земля смотрит с укором на него, не сумевшего людям напомнить, с чего начинался Ногунал, какие трудности пришлось перенести первым переселенцам. Что же случилось? Почему иные так равнодушны к земле-кормилице? Сколько помнит себя Тотырбек, он обращался с землей, как с живым существом, советуясь с нею, благодаря ее за богатый урожай, укоряя за бедный. Ему вспомнились годы войны…
…Не верилось, никак не верилось, что такое может произойти. Не верилось хотя прерывистый, тяжелый гул с каждым днем слышен был все сильнее и сильнее. Не верилось, хотя по дорогам двигались толпы людей со свертками, мешками, чемоданами. Тотырбек не мог оторвать взгляда от женщины, что, роняя слезы в серую придорожную пыль, с трудом передвигала босые ноги с потрескавшимися подошвами. А рядом двигался старик. Сзади шел подросток. Этих людей страшило предстоящее испытание — переход через Кавказский хребет, и они, тревожно поглядывая на белоснежные скалы, тяжко вздыхали, но гул, доносившийся сзади, заставлял их ускорять шаг.
Однажды, оказавшись в потоке беженцев, Тотырбек еще острее почувствовал народное горе и хоть спешил — не мог, не был в состоянии сидеть в седле. Тотырбек соскочил с коня, подхватил с рук крупной крестьянки в испачканной, измятой юбке белобрысого мальчугана, подсадил в седло, но малыш вдруг испуганно закричал, потянулся к матери.
— Посиди, посиди минуточку, Федорка, — попросила она, тяжело уронив руки. — Совсем силенок не стало. — И застыдившись, кольнула большими глазами Тотырбека: — Сынок, конечно, совсем махонький, да дорога все силы вытянула. Кабы хоть харчи были…
Чем Тотырбек мог помочь этим несчастным? Когда появились первые беженцы, горянки выбегали за село с кастрюлями и корзинками, совали в руки беженцам хлеб, яйца, яблоки, пирожки, картофель, редиску, морковь — у кого что; бывало, что и уговаривали иных из них завернуть в Ногунал, чтобы дать отдохнуть денек-другой детям. Да в лучшем случае беженцы задерживались лишь на ночь: не хотели отставать от своих. С рассветом, чуть заалеет восток, матери торопливо тормошили детишек и, горячо благодаря за приют, опять устремлялись к дороге. Вливались в поток, спешили добраться до гор, перевалить их и скрыться от наступающего врага.
По распоряжению Тотырбека старики, из тех, кто еще мог стоять на ногах, каждое утро резали одного-двух баранов и варили целый котел похлебки, которой кормили детей беженцев возле развилки дорог. Котла хватало едва на полчаса, и старики возвращались в село, клянясь, что больше ни за что не возьмутся за это дело, ибо не в силах смотреть, как тянутся к ним руки голодных детей, как жадно заглатывают, обжигаясь, картофелины и кусочки мяса. «Ни за что!» — говорили старики. Но еще задолго до рассвета они уже спешно готовили еду. Богат, очень богат был трудодень в их колхозе. И все, все, что накопилось за последние годы в амбарах, сараях и подвалах, люди щедро раздавали.
Вручив Федорку матери, Тотырбек завернул в село. Конь споткнулся на левую ногу. «Какая еще беда случилась?» — горько усмехнулся Тотырбек. Тогда ему не верилось, что враг может подойти совсем близко. «Этого не может быть», — твердил он себе, хотя до слуха его доносились гулкие и частые взрывы. С каждым днем они становились все явственнее. «Да, придется готовиться к худшему», — однажды нехотя признал Тотырбек. Фашисты оказались в девяти километрах от Ногунала. Надо было сделать так, чтобы врагу ничего не досталось: ни скот, ни зерно, ни картофель, ни даже топливо. Жаль, конечно, было домов, совсем недавно отстроенных. Но разве нашим далеким предкам не было жаль своих полей и лесов, а они подвергали огню все вокруг, оставляя врагам лишь выжженную землю. И победили, выстояли! И нам следует так поступить. Надо поднять людей, пусть скрываются в горах, а здесь оставим голую землю. Ничего, изгоним врага — дни и ночи будем работать, и все у нас снова будет: и богатые урожаи, и дома-хадзары, и тучные отары, и обильный стол… Сегодня же соберу народ, откладывать сборы на завтра нельзя — вон как гремят орудия, враг подступает к селу…; Тотырбек пришпорил коня и поскакал к правлению колхоза. За квартал до усадьбы он увидел Агубе Тотикоева, сидящего на чурбаке, с незапамятных времен лежащем возле плетня, — порой Тотырбеку казалось, что сперва появился чурбак, а изгородь позже. Неделю назад танкист Тотикоев возвратился домой с фронта, возвратился на костылях. Ушел на фронт весельчак Агубе, а возвратился точно другой человек… Казалось, что снаряд, подбивший танк и изуродовавший его лицо, навсегда лишил человека улыбки.
И тем неожиданнее для Тотырбека было то, что, когда он натянул поводья, чтоб поздороваться с прибывшим на излечение домой танкистом, его встретил сияющий взгляд Агубе. И настолько эта перемена в Агубе была разительна, что, слезая с коня, Тотырбек не спускал глаз с Агубе и дивился. Там, на дороге, столько горя, о приближающемся враге ежеминутно напоминают доносящиеся взрывы снарядов, сам Агубе изуродован до неузнаваемости, — а он сидит возле ворот хадзара, как бывало до войны, и улыбается. «Напился, что ли?» — с горечью подумал Тотырбек и подошел к Тотикоеву. Нет, от него запахом араки не отдавало. Агубе не был пьян. Крепко пожав руку председателю, он подвинулся, чтобы и тот мог примоститься на чурбаке.
Из двора выскочил веселый малыш, увидев лошадь, застыл от неожиданности. Агубе озорно глянул на председателя колхоза:
— Позволь сыну посидеть на коне… Да не бойся, не упадет, — он у меня цепкий…
Тотырбек посадил мальчика в седло, и тот, не веря своему счастью, сделал два круга по улице. Маленький Тотикоев осмелел, вцепился ручонками в седло, все громче и громче подавал голос. Тотырбек и не заметил, как улица наполнилась высыпавшими из дворов и домов маленькими горцами. Глядя на горделиво посматривавшего сверху, расхрабрившегося сына, Агубе захохотал, вытирая слезы тыльной стороной руки…
— Пусть забавляется, — попросил он, когда Тотырбек, привязав коня к забору, хотел снять с седла ребенка. — Конь, по всему видать, спокойный…
Они сидели рядком, председатель колхоза и бывший танкист, то и дело покрикивая на ребятишек, отгоняя наиболее смелых, приблизившихся к коню, и неторопливо вели беседу.
— Думаю, всем нам пора уходить в горы, — произнес Тотырбек. — Слышишь? — кивнул он в сторону, откуда доносились выстрелы.
— Уходить? — обезоружил его улыбкой Агубе. — Мы уйдем, а его остановят…
— Но откуда у тебя уверенность, что остановят? — пытался заставить Тотикоева заговорить всерьез Тотырбек.
— Фашист вторые сутки утюжит снарядами нашу оборону, а прорвать не может, — сказал Агубе.