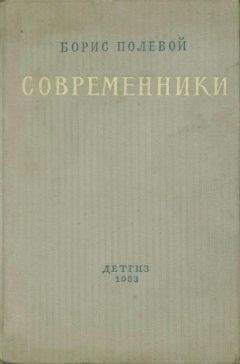И понимаете ли, дело какое! Сплю я и вижу во сне: являюсь будто бы к себе в мастерскую, явно так всех вижу — и Василия Парфеныча, и Надю-нарядчицу, и всех наших ребят. Вхожу я и говорю: «Здравствуйте, хлопцы! По всему видать, у вас тут без меня запарка, вот я на помощь к вам и прибыл…» И вижу, никто со мной не здоровается и все будто смотрят куда-то не на меня, а мне за спину. Оглянулся — позади дверь открыта, за дверью степь, снега синеют. Спрашиваю: «В чем дело, куда смотрите?» А Василий Парфеныч будто спрашивает меня: «А где же море, что ж ты его к нам не привел? Кишка тонка — не выдержала…» И все смеются, а Надя-нарядчица пуще всех. И такой у нее смех обидный, будто она меня иголками язвит…
Проснулся я в испарине, точно с банного полка́ свалился. Ведь пригрезится же такое! А главное, дальше так глаз и не закрыл.
Ну, а на следующее утро нашел я бригадира своего знаменитого, отвел его в сторону, извинился за вчерашнее, обещал рыжий мой характер не обнаруживать и учиться всему, что он укажет. «Хоть за электродами, говорю, в кладовку бегать, а только в бригаде оставь». Оставил — и не зря: не жалел потом. Хвалиться не стану: в первой пятерке среди монтажников был; как где что заест, бригадир туда — меня: исправляй, раскумекивай… Там вон у шлюза и сейчас на почетной доске физиономия моя красуется. Да дело и не в том — не впервой мне на почетной-то доске сидеть. Главное, что со стройки к себе в МТС возвращусь с таким багажом, что этот-то багаж перед ним тьфу! — Он пренебрежительно плюнул в сторону туго набитого своего вещевого мешка. — Длинный рубль! Я вернусь, покажу им длинный рубль! Будут знать, как над человеком смеяться: ха-ха, хи-хи! Я им одних благодарностей четыре штуки выложу да телеграмму министра, где мое имя помянуто с положительной стороны… Длинный рубль! У нас, у комбайнеров, он, может быть, и подлиннее, да разве тут в заработке дело!
Где-то внизу на дороге гудела сирена. Запыленная полуторка сигналила явно моему собеседнику, но тот разговорился и будто не слышал ее. Тогда шофер, должно быть обиженный таким невниманием, дал протяжный гудок.
— Чорт! Аккумуляторы посадит… Слышу, слышу! Соскучились…
Сильным рывком собеседник мой взвалил за спину мешок, подхватил патефон и на самый затылок насадил свою роскошную бархатистую шляпу.
— А море? — напомнил ему я.
— Море?.. Вон они, мои моря! И это, и другое, и третье. Море меня опередило. В газетах читал, будто в наш район не отсюда, а из самого Цимлянского вода по оросительному еще весной прошла! Не с пустыми руками возвращаюсь!.. Ну, бывайте здоровы!
Пружинистым шагом сбежал он с высокого откоса туда, вниз, где стояла полуторка.
У береговой кромки, где давеча сидел монтажник-комбайнер, остались следы его тяжелых, подкованных сапог. Зеленоватые волны, набегая, казалось стремились их смыть, но не могли до них доплеснуться.
И я подумал, что не только волны, но и время бессильно сгладить следы таких людей.
По закопченному заводскому двору, затянутому густыми, тяжелыми дымами, торопливо двигалась небольшая и ничем особенно не примечательная группа людей. Рабочий день на «Красном Чепеле», как тогда назывался крупнейший в Венгрии машиностроительный комбинат, был в разгаре. Меж цехов по асфальтовым дорожкам взад и вперед сновали вереницы автокаров, груженных деталями. Тракторы, тарахтя, тащили повозки с позвякивающими пучками сортового железа. Пронзительно звенели сигнальные колокола трансбордеров, костлявые руки электрокранов неторопливо поднимали стальные чушки и бережно опускали их на платформы узкоколейного поезда.
В этой сутолоке машин и механизмов люди, спешившие по заводскому двору, почти терялись. Их попросту было трудно заметить. И всё же рабочие, как-то прослышав об их приближении, выбегали из ворот цехов и, толпясь возле них, приветствовали проходящих, подбрасывая шляпы, береты, каскетки. Они выкрикивали немногие известные им русские слова: «Москва! Советы! Сталин!»
Небольшой худощавый человек в черной шляпе, застенчиво улыбаясь, приветливо помахивал в ответ рукой. Он был явно сконфужен таким приемом, поэтому торопился, и сопровождавшие его люди едва поспевали за ним.
Но весть о госте из далекой Москвы, облетая цехи комбината, опережала его. Во дворе становилось все люднее, все больше рабочих высыпало навстречу, приветствия звучали все громче. Так, под шумные рукоплескания, сопровождаемый уже целой толпой, московский токарь Павел Борисович Быков и вошел в цех, где, как ему сказали, ждал его один из видных тружеников народной Венгрии — Муска Имре.
Это был небольшой человек в стареньком, но чистом комбинезоне, с живым лицом и маленькими прищуренными глазками. Быкову он сразу понравился. Он любил таких вот, как он выражался, «моторных» людей, не теряющихся ни при каких обстоятельствах.
Знаменитые токари познакомились, тряхнули друг другу руку; потом Муска заявил, что приветствует московского собрала по профессии, как ученик учителя. Он сказал, что, используя опыт Быкова, о котором узнал из газет, он выполняет теперь в день по три-четыре нормы. Он просил москвича передать благодарность стахановцам советской земли, подвиги которых вдохновляют венгерских тружеников.
Пока всё это переводили, Павел Борисович, продолжая улыбаться, цепким глазом осмотрел станок, на котором работал Муска, оценил приспособления, которыми тот пользовался, будто бы невзначай пощупал рукой резец и установил для себя, что передовой человек этого первоклассного в Европе завода имеет хороший станок, а резцы и приспособления у него такие, какие в Москве употреблялись еще на заре стахановского движения.
Тем временем их окружила большая толпа. Все ближнее крыло цеха прекратило работу. Станки утонули в шевелящейся массе блуз, кепок, каскеток, беретов и шляп. Кое-кто уже забрался и на станины. Таким образом, вокруг рабочего места Муски как бы образовался амфитеатр.
Тут были рабочие в заскорузлых, просмоленных комбинезонах, техники и инженеры. Все с нетерпением смотрели на Павла Борисовича. Толпа тихо, но возбужденно шумела, ожидая, когда гость заговорит. А москвич стоял среди них спокойный и сосредоточенный, с улыбкой в уголках губ. Пока что он сам смотрел и слушал.
— Какая у здешних токарей скорость резания? — неожиданно спросил он.
— У лучших? Она достигает шестидесяти метров в минуту. Товарищ Муска у нас рекордсмен, он довел до ста метров, — ответил инженер, директор токарного цеха, и, в свою очередь, поинтересовался: — А у вас?
Теперь можно было начинать разговор.
— Скоростники на нашем заводе дают обычно шестьсот-семьсот метров. Моя рабочая скорость — тысяча, — ответил Павел Борисович.
Переводчик передал его слова в толпу, и в ответ послышался такой шумок, что директор цеха, стоявший возле гостя, тревожно покосился на окружающих. Павел Борисович не понял, конечно, восклицаний, раздававшихся на незнакомом языке, но в самом тоне их он уловил и восхищение, и удивление, и недоверие. Приметил он также, что в узких глазах Муски Имре вспыхнули восторженные огоньки. Это обрадовало токаря. Он улыбнулся, как может только улыбаться человек широкой, открытой души.
— Это еще что! — сказал он, переходя с официального тона на обычный, каким он говорил дома, в родном цехе, в кругу товарищей, пришедших посмотреть на его работу. — Это еще цветочки, а вот недели три назад… да как раз перед отъездом сюда, в Венгрию… довелось мне, товарищи, испытывать новый станок. Пробу я ему делал. Вот это я вам скажу — станочек! Я на нем довел скорость до тысячи ста, а потом до тысячи трехсот пятидесяти метров в минуту. И без всякого напряжения.
Переводчик, заводской человек, научившийся языку у нас в лагере военнопленных, вопросительно посмотрел на токаря. Он знал технику скоростного резания металла, и ему подумалось, что московский гость обмолвился или что он, переводчик, не так понял его.
— Сколь скоро? Пожалуйста, прошу назвать последний цифр…
— Тысяча триста пятьдесят, — раздельно сказал Павел Борисович тем тоном, каким учитель произносит слова диктанта.
Переводчик покорно сообщил эту цифру. Узкие глаза Муски Имре вспыхнули еще восторженнее. Но шум, который снова прошел по толпе, на этот раз был уже другой. Одобрительных нот в нем почти уже не звучало. Быков уловил удивление, недоверие.
Его не понимают. Что ж, он не первый раз за границей, он уже знает, что как бы хорошо люди ни относились к его стране, как бы радостно ни воспринимали рассказы о ее достижениях, им все-таки трудно понять все то необычное, великое, что рождает в себе мир строящегося коммунизма. И, не обращая внимания на явную настороженность аудитории, он принялся неторопливо разъяснять методы своей работы, рассказывать обо всем, что позволило ему достичь столь поразивших всех результатов в скоростном резании.